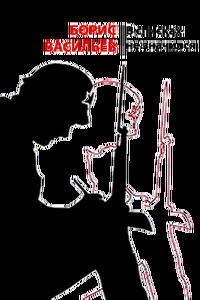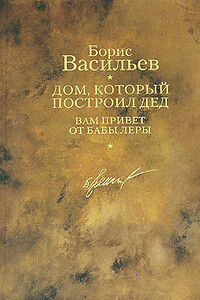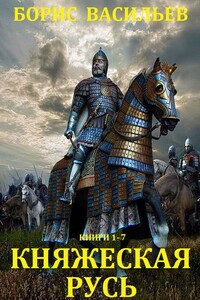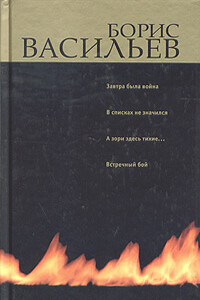В окружении. Страшное лето 1941-го | страница 36
А повезло нам, как я теперь понимаю, благодаря хаотичной застройке купеческого города Воронежа. Его центральный (и очень большой) квартал был застроен кирпичными зданиями в два-три этажа. Внутри же его стояли деревянные дома и сараи, потому что во дворах держали всякого рода живность. Кур, уток, индюков, свиней и даже овец. Все это требовало дворовых подсобных помещений, которые были чрезвычайно опасны из-за возможных пожаров. Вот их-то и решено было ликвидировать в первую очередь, для чего и мобилизовали комсомольцев из школ этого квартала. Так сказать, по месту жительства. Я попал старшим одной из пятерок. Мы ходили по дворам, уговаривали хозяев живности убрать свои сарайчики, но толку из этого не вышло. Хозяева встречали нас в штыки, немедленно писали коллективные письма в обком партии, а поскольку инициатива эта была местной, то обком предпочитал не создавать ненужного шума. Шли вялые отписки, создавались какие-то комиссии, кому-то разрешали держать живность в дворовых сарайчиках, кому-то – не разрешали. Избирательность вообще характерна для советской системы, никакого равенства не существует, но существуют родственники, знакомые, земляки и т. д. и т. п. Уже тогда, по крайней мере в провинции, проявилось то, что махровым цветом расцвело сегодня. Устройство родственников и земляков на должности, предоставление им мелких льгот – признак все той же крестьянской культуры, подмявшей под себя дворянский менталитет России с его долгом перед Отечеством, а не перед соседом по хате.
Это наше бурное начинание тогда захлебнулось, но с началом войны, благодаря приказу сверху, возникло с новой силой. До ухода на фронт, т. е. до 4 июля, я деятельно занимался разгромом частного сектора в центре города, но на сей раз с моей группой ходили либо представители милиции, либо чиновники из райкома партии.
…Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно. И мы со школьными друзьями решили идти купаться.
Но пока собирались, облака стали тучами, а когда поравнялись с нашей бывшей (семилетней) школой, хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и наш бывший директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно.
– Война, мальчики… – сказал он.
А мы заорали: «Ура!»…
Из четверых мальчишек, глупо оравших «Ура!» на крыльце школы, в живых остался я один.