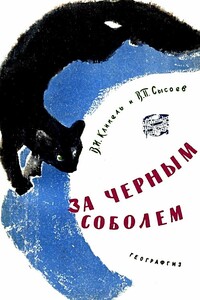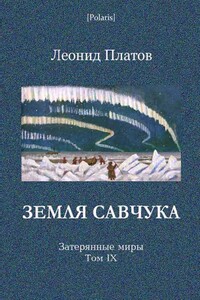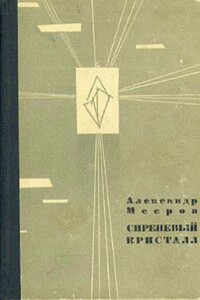На Золотой Колыме. Воспоминания геолога | страница 82
Зимняя дорога отчетливо выделялась на местности широкой полосой густо рассыпанного овса — след зимних перевозок. Задевая за кусты и деревья, непрочная упаковка не выдерживала, рвалась, и овес беспрерывной струйкой высыпался на землю, оставляя заметный след, который четко обозначал дорогу.
Солнце уже начинало склоняться к горизонту, а мы все еще шли по унылой однообразной равнине, устало хлюпая натруженными ногами. Стало подмораживать. Впереди послышался глухой шум, который по мере нашего приближения становился все громче и громче. И вот наконец показался берег какого-то большого ключа, который с гулом и клёкотом мчал свои вспененные воды по широкому руслу. Здесь уже не перебросишь на противоположную сторону спасительное дерево-мост. Мы грустно брели вдоль берега, но, увы, подходящих для перехода мест не было видно. А на противоположной стороне из-за небольшой рощицы, как будто поддразнивая нас, к небу поднимались синеватые струйки дымков, говорящие о жилье, ночлеге и отдыхе.
В одном месте поток, встретив большую наледь, разбился на несколько отдельных русел. Здесь мы и решили перебрести его.
Крепко взявшись за руки, мы после нескольких бесплодных попыток с большим трудом, по пояс в воде, наконец добрались до противоположного берега. Иззябшие и мокрые, лязгая зубами, потрусили мы к жилью — небольшой дорожной командировке. Ее начальник устроил нас в своей маленькой конторке, и мы, поужинав и напившись чаю, крепко уснули.
На следующее утро, распростившись с гостеприимным хозяином, мы вновь зашагали по раскисшему зимнику.
Вечер застал нас на берегу Ат-Юряха, довольно крупного притока Колымы. Нам говорили, что осенью через Ат-Юрях был перекинут мост, однако весенним паводком его снесло. Перед нами встала трудная задача — переправиться на ту сторону. Решение ее мы отложили до утра, а пока что, выбрав местечко посуше, разложили огромный костер и, поужинав горячим чаем с галетами и сгущенным молоком, попытались уснуть на прогретом галечнике. Однако ночь была слишком холодная. Снизу нас припекало, сверху, наоборот, примораживало. Мы на короткое время впадали в зябкую полудрему, беспрерывно переворачивались с одного бока на другой и, наконец, видя, что уснуть все равно не удастся, взялись за изготовление маленького плотика, который должен был перебросить нас через бурный Ат-Юрях.
Теоретически мы знали, как вяжутся плоты, но теория и практика — разные вещи. Теория, как известно, — это «как сшить сапоги», а практика — «сшить сапоги». Воплотить на практике наши теоретические познания оказалось нелегко. Особенно трудно досталась нам вязка плота с помощью распаренных тальниковых прутьев. Начав работать в два или три часа ночи, мы закончили наше сооружение только к девяти часам утра. Выглядело оно не особенно солидно. Плот был собран из шести пятиметровых сухих тополевых бревен, соединенных тальниковыми кольцами с двумя поперечинами — ронжами. Весел у нас не было, их заменяли длинные шесты. Сделав на плоту небольшой помост, мы положили на него наши рюкзаки и, оттолкнувшись от берега, отдали себя во власть стихии.