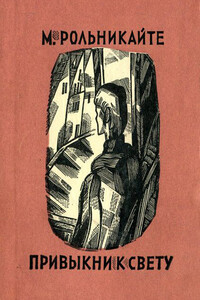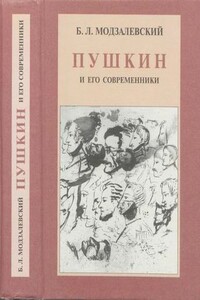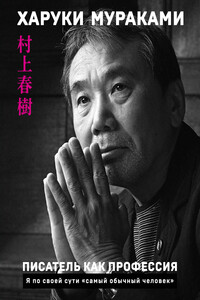Это было потом | страница 21
жизни, потому что еще со времен гетто и лагеря не представляла себе ее долгой. Мне просто нравилось, что работа такая непривычно легкая (в начале даже удивилась, что это считается работой). Нравилось сидеть в большой комнате, за таким же, как у остальных, письменным столом, расчерчивать чистые листы бумаги и заполнять эти промежутки столбцами цифр, гонять кругляшки счетов, выводить процент выполнения плана. Особенно нравилось, что к нам приходят писатели, композиторы, художники. Любила слушать их рассказы, и удивлялась, что они так много всего знают. Правда, после того, как пьяный художник Ю., показывая на меня, спросил: "А эта откуда взялась? Их же всех убили!" — я всякий раз, когда входил незнакомый мужчина, пугалась, что сейчас он тоже что-нибудь такое скажет… Старалась, чтобы никто моего страха не заметил, особенно Печюрене. Она же тогда велела этому пьяному художнику извиниться. И хоть он извинялся, бормотал, будто именно доволен, что не всех убили, особенно такую молодую и красивую, как я, но я чувствовала, что это неправда… И впервые после возвращения, подумала, что, может быть, таких, удивляющихся, и хуже того, недовольных, что не всех убили, много. Ведь тогда, когда мы в колонне брели на работу или устало тащились обратно в гетто, прохожие редко смотрели на нас с сочувствием. Иные, может, и сочувствовали, но боялись это показать, и проходили, потупив глаза. Другим явно было все равно — бредем ли мы еще по мостовой, не бредем. Заберут ли нас этой ночью, или не заберут. Иные ухмылялись, вслух радовались, что наконец нам "прижали хвосты". Однажды какой-то верзила спросил конвоира, чего с нами еще возятся. Надо всех пиф-паф, и готово! А ведь не все, тогда ухмылявшиеся, удрали с немцами. Они и теперь где-то рядом, в городе… Наверно, поэтому, увидев на улице хмурого мужчину, вдруг пугаюсь, что я без желтых звезд на одежде, быстро прикрываю то место, где они должны быть рукой, и сразу схожу на мостовую. И хотя этот хмурый мужчина проходит мимо, даже не взглянув на меня, и я знаю, что больше не должна носить желтых звезд и ходить по мостовой, все равно еще не сразу отнимаю руку и не сразу возвращаюсь на тротуар… А ночью другое. Во сне все само возвращается. И всегда одно и то же… …Я в лагере. Стою в шеренге. Мы должны голые по одной проходить мимо унтершарфюрера. Он отбирает самых исхудалых для отправки в газовую камеру. Я двигаюсь вместе со всеми и никак не могу унять дрожь, — на этот раз он меня уже наверняка отправит: я, кажется, самая худая. И кожа от холода и страха посинела, покрылась пупырышками. Унтершарфюрер тычет плетью, чтобы я перешла к тем, отобранным. От страха просыпаюсь, и… болит то место, куда он ткнул. Быстро открываю глаза. Начинаю убеждать себя, что никакого унтершарфюрера нет. Я лежу на диване. Рядом, на стуле висит платье, в котором хожу на работу, а на этажерке лежат книги. Я здесь живу. Папа живет у Киры Александровны, а Мира — у мужа. Она недавно вышла замуж. Я в Вильнюсе. Лагерь приснился. Дрожь еще долго не проходит. И совсем так же, как там, от голода сосет под ложечкой. Я тихонько, чтобы не разбудить соседей, иду на кухню, отрезаю ломоть хлеба, снова ложусь и отщипываю губами по маленькому кусочку.
Книги, похожие на Это было потом