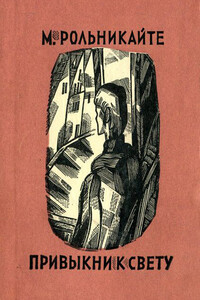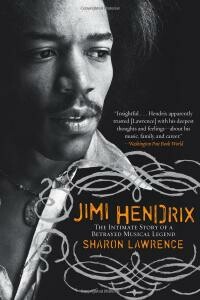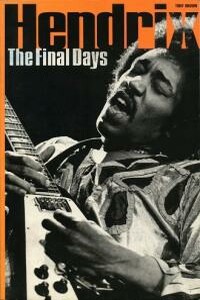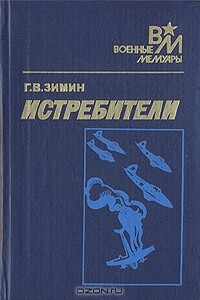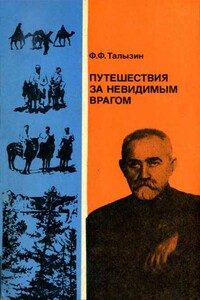Это было потом | страница 15
ДОМАШНИЙ МЕМОРИАЛ
За работу я взялась сразу. Одну за другой заполнила три толстые тетради. Но не так, как было, не отдельными дневниковыми записями, а сплошным рассказом. На первой тетради вывела название — "В кровавой схватке". Под ним подписала — кажется, толком не сознавая, что это эпиграф — слова из когда-то слышанного стихотворения: "Если жить — значит страдать, то я живу уже много лет. Если жить — это радоваться, то я еще не родилась". Перевязала свои тетради черной ленточкой и положила их в самый нижний ящик стола. Но через некоторое время одну, первую, достала. Директор Еврейского музея попросил принести, показать ему. О том, что в городе создан такой музей, я узнала случайно. Набрела на него. Я давно хотела пойти в гетто, то есть туда, где оно было, — ведь в первое утро прошла только по одной, улице Руднинку, и лишь издали видела торчащие за развалинами дома соседней. А я хотела обойти все гетто. Понимала, что никого там не встречу, знала, что оно почти сплошь разрушено, а все равно тянуло… И однажды пошла. На Лигонинес, или, как ее тогда называли по-польски Шпитальной, несколько домов уцелело. Я подошла к тому, в котором была геттовская больница. Ворот нет. И безоконная комнатка, где был морг, стоит без двери. Вместо улочки Диснос между сплошными грудами битого кирпича и камней вьется только тропинка. Может, поэтому там, на Шаулю, или по-старому Шавельской, дома кажутся высокими. Но они — те же. А тот, который стоял на углу Страшуно, немцы взорвали еще при нас, во время одной из последних акций на мужчин. Теперь, наверно, никто и не знает, что тут, под этой грудой битого кирпича лежат заживо погребенные молодые мужчины… А дом напротив, Страшуно, 12, немцы взорвали во время той же акции. Там затаились геттовские партизаны, готовые дать отпор. И действительно, когда немцы приблизились, партизаны бросили в них несколько гранат. Одного немца убили, нескольких ранили. В отместку они и этот дом взорвали. А кроме партизан, там были и женщины, и дети… Остальные дома стоят. На Страшуно я заходила в каждый двор. В одном старик спросил, кого ищу. В другом женщина пожаловалась, что третью неделю у них нет воды, приходится ее таскать из соседнего дома. Когда я подходила к дому номер 6, мне на миг почудилось, что иду, как