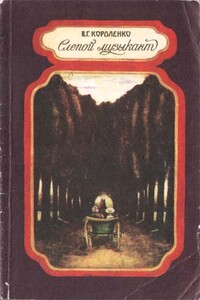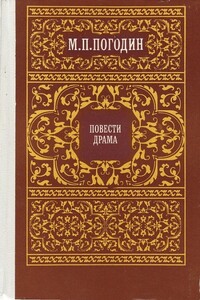Хромая судьба | страница 48
С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку — в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают.
Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей, якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает и вообще ведет себя безобразно.
В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. "Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?" Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: "Рогожин, я к Вам равнодушен!". Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.
Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное!?
Громовой возглас: "И животноводство!" — вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.