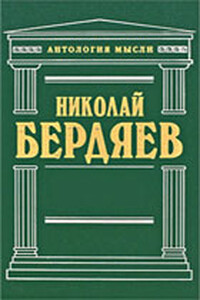Я и мир объектов | страница 12
Субъект гносеологии не есть бытие, он противостоит бытию. Человек же есть бытие. Человек, поскольку он выброшен в мир, порабощен объектом и считает сам себя объектом. Но он также переживает свое бытие в самом себе, свою собственную судьбу. Только во втором смысле интересен для нас человек, когда мы ставим проблему познания.-Тогда субъект имеет характер не субъективно психологический, а онтологический. Дух никогда не есть объект, дух всегда субъект, но субъект в более глубоком смысле, чем это утверждает гносеология. "Объективно" мне не может раскрыться смысл. Ничто "объективное" не имеет смысла, если не осмысленно в субъекте, в духе. Смысл раскрывается во мне, в человеке, и соизмерим со мной. Объективация смысла, когда он представляется данным извне, из объекта, носит социальный характер и всегда есть еще та или иная форма рабства духа. Гуссерль говорит, что истина - в стоянии существования перед бытием. Но он же утверждает, что сознание не есть субъективное переживание, которое должно отражать бытие. Для него в сознании раскрывается бытие. Это значит, что субъект познания есть уже бытие и, как бытие, стоит "перед миром. Киркегардт утверждает обратное тому, что утверждает большая часть гносеологов, - субъективность есть истина и действительность. И он, конечно, прав в том смысле, что критерий истины не может быть в объекте, он - в субъекте, в моем сознании и совести. Объективация критерия истины обыкновенно означает, что он перекладывается в чужое сознание и совесть, что не уменьшает, а увеличивает трудность. Приобщение к истине всегда, конечно, означает выход из эгоцентрической замкнутости. Познание и есть преодоление эгоцентризма, оно - лично, но не эгоцентрично. Эгоизм и эгоцентризм происходят от "я", а не от личности. Жертвовать можно только "я", личность же нужно реализовать. Переход от "я" к Богу, что и есть окончательное преодоление греха эгоцентризма, есть переход с другими, но не через других. Другие не могут быть источником моего отношения к Богу. Лишь во вторичном плане, т. е. в социальной объективации, это представляется иначе. Безнадежно построить теорию познания, которая сама не была бы уже познанием. Нельзя сделать познание объектом своего исследования без того, чтобы исследователь сам совершал познавательный акт. Всегда и везде объективация, которая производится в серединном пути сознания и которая подчиняет себе сознание, есть нечто вторичное, первичная же действительность и первичное познание лежит до этой объективации или после этой объективации. Человек был превращен в субъект гносеологический лишь по отношению к объекту, к объективированному миру и для этой объективации. Вне же этой объективации, вне стояния перед бытием, превратившимся в объект, субъект есть человек, личность, живое существо, само находящееся в недрах бытия. Истина в субъекте, но не в субъекте, противополагающем себя объективации и потому выделяющем себя из бытия, а в субъекте, как существующем. В объективном, вещном мире не может быть критерия и источника истины. Интеллектуализм (греческий и схоластический) означает пассивное понимание субъекта, который принимает бытие через интеллект, через мысль. Таким образом, продукты мысли легко принимаются за бытие, ибо мысль всегда активна и не может быть зеркалом. Моя мысль первоначально чувствует себя стоящей как бы перед хаосом. Но она должна быть ясной и светоносной во тьме, должна вносить смысл в бессмыслицу. Когда я познаю тьму и бессмыслицу, то я вношу свет и смысл. Познание по существу активно, ибо активен человек. В гносеологическом противоположении познания и бытия невозможно допустить, что познание лишь пассивно отражает бытие, целиком определяется бытием, как миром сотворенным. В познании привносится что-то от свободной активности. Познание не есть лишь отражение, оно есть творческое преображение. И это нужно понимать не так, как понимал Кант или Фихте. Для них субъект (трансцендентальное сознание, Я) как бы создает мир, но в нем нет элемента человеческой свободы, нет ничего человеческого. Сам человек при этом не активен познавательно в создании субъектом мира. В действительности мир не сотворен субъектом, мир сотворен Богом, но он не закончен, окончание передано человеку. И человек во все должен вносить свою творческую свободу и в самом познании продолжать миротворение. Мир не входит в меня пассивно. Предстоящий мир зависит от моего внимания и воображения, от интенции моего сознания (эта интенция определяется изнутри, а не извне). Это значит,, что предстоящий мир зависит от субъекта, как человека, как бытия, как существующего. Это значит, что познание есть отношение бытия к бытию, творческий акт в бытии. Все различно из субъекта и из объекта, из духа и из природы, из личности и из общества. Это разные миры, и нет мира абсолютной объективности, есть лишь разные ступени объективации; Абсолютное же не в объективации, оно в ином плане, в плане необъективированного духа и необъективированного существования. Познающий человек защищается от подавляющего многообразия мира, открываясь для одного и закрываясь для другого, часто презирая и осуждая то, что для него закрывается. Познающий человек постоянно себя трансцендирует[5]. Познающий не вмещает полноты, и потому познание частично. Путь к полноте есть путь творчества. Творческая активность человека есть и в объективации, например в изумительном изобретении математики, она еще более есть в преодолении объективации, в метафизике, прорывающейся к сущему и существующему. Но сознание, как верно говорит Ренувье, есть лишь отношение, и потому не может-быть абсолютного сознания. Мы еще вернемся к проблеме, как в познании человек прибавляет что-то от своей свободы. Это есть проблема активности и пассивности в познании. Загадкой и тайной в теории познания остается, как это объект, материальный и иррациональный, отражается в качестве познания в субъекте, не материальном и разумном. Эта проблема неразрешима, если под познанием понимать отражение объекта в субъекте, если бытие считать объектом, а субъект считать стоящим вне бытия.