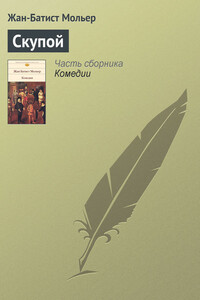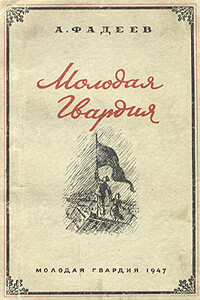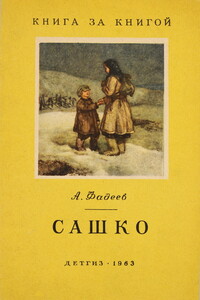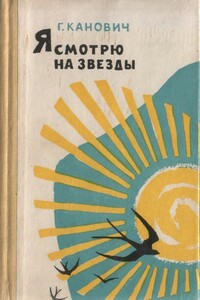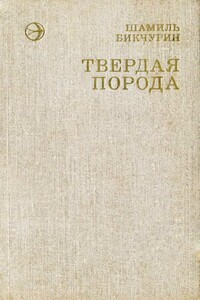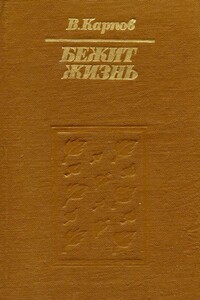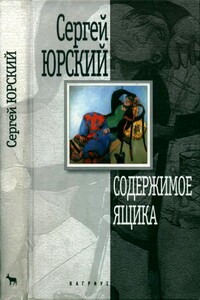Разгром. Молодая гвардия | страница 2
Мечта о «добром и прекрасном человеке» становилась действенной силой, она пробуждала нетерпимость к «немыслимо-скудной жизни», давала силу, цель и смысл жизни. Может, поэтому люди революционного дела и стали на всю жизнь героями всех произведений А. Фадеева, начиная от ранних повестей «Против течения» («Рождение Амгуньского полка») (1923), «Разлив» (1922–1923) и кончая незавершенным романом «Черная металлургия», над которым писатель работал в последние годы своей жизни.
Сам А. Фадеев был таким же человеком революционного дела, как и его герои. Вся его жизнь (1901–1956), обстоятельства ее были таковы, что А. Фадеев и по условиям своего рождения (в семье сельских прогрессивно настроенных интеллигентов), и в последующем общении с революционной семьей Сибирцевых подходил к восприятию идей социального переустройства мира. Со школьной скамьи он ринулся в битву; молодого партизана, подпольщика Булыгу, хорошо знали на Дальнем Востоке. Посланцем большевиков Приморья в марте 1921 года он приехал в Москву на X съезд партии. В числе других делегатов этого съезда он идет на штурм Кронштадта, где вспыхнул контрреволюционный эсеровский мятеж. Это о таких, как он, впоследствии скажет поэт Багрицкий: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед».
Тяжело раненный в бою, он лечится в госпиталях, затем учится в Горной академии. Партия посылает его на юг: на Кубань, в Краснодар, затем в Ростов-на-Дону…
Писатель немыслим вне своей биографии. Все пережитое А. Фадеевым, весь его жизненный путь был «вровень с веком», с его надеждами и стремлениями, со всем ожесточением борьбы и преодолений. В то же время была одна особенность в характере А. Фадеева, которая выделяла его среди сверстников и товарищей: талант художника органически соединялся в нем с несомненными способностями организатора, с неиссякаемым стремлением к практическому делу.
Главным своим делом А. Фадеев всегда считал литературу. В одном из «исповедальных» писем (ноябрь 1944 года) он писал: «…я сел писать. Дело в том, что, как бы ни складывалась моя жизнь, каким бы я сам ни выглядел перед богом и людьми, это самое настоящее, большое, правдивое, сильное, глубоко сердечное, что я могу делать для людей. И я должен был преступить через все и прежде всего делать это, чтобы это не погибло в душе моей и для меня и для людей»[2].
Порой возникали драматические противоречия между этим осознанием, этой неистребимой жизненной потребностью «писать» и той громадной практической работой, которую ему приходилось выполнять как руководителю Союза писателей, деятельному участнику общественной жизни.