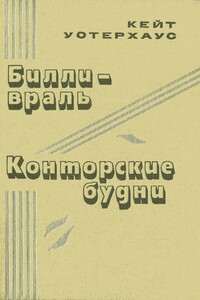Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы | страница 8
И в стихах, и в прозе Бабич был поэтом, философом, исследующим глубинные вопросы жизни, скрытую, таинственную суть человеческого существования. А. Немеш Надь так определила болевой центр его творчества:
«Бабич мучается не политикой, не национальными, интернациональными или социальными вопросами, он мучается не любовью, не зубами, не ушами. Бабич — тот поэт, который мучается человеческим существованием, экзистенцией».
Суть человеческого существования «поэт-ученый» стремится постичь одновременно разумом, как «ученый», и интуитивно, как «поэт». Произведения его возникают как бы из соприкосновения разума и интуиции, на «пограничной черте науки и веры» (если воспользоваться словами русского символиста Д. Мережковского). Такой способ отображения жизни связывает творчество Бабича с эстетикой символизма.
За текстом его произведений, освещенным «светом разума», всегда стоит какая-то загадка, тайна жизни, которая не выразима в слове до конца. Известный исследователь Бабича Аладар Шепфлин писал, что «нет ничего проще, чем пересказать фабулу его новеллы, но невозможно трезво, логично пересказать ее смысл». Этот «недоступный логике смысл» часто передается у Бабича, как и у символистов, неисчерпаемо многозначными образами, символами.
Творческому кредо Бабича была созвучна и символистская теория красоты. Красота в представлениях символистов составляет глубинную сущность мира, его высшую ценность и преобразующую силу бытия. В одном из писем, адресованных поэту и писателю Д. Костолани, Бабич сравнивает себя с «промывателем золота», который ищет «спящие образы на дне, в глубине человеческой души». Он пишет, что никогда не согласится с теми, кто утверждает, что «там — в глубине — одна грязь» и «никаких сокровищ нет». Не случайно в стихах Бабича часто возникает образ водолаза, исследующего глубины моря в поисках затонувших сокровищ.
В своем творчестве Бабич до конца оставался сторонником теории верховности, самоцельности искусства, но красота не была для него категорией абсолютно отвлеченной, безразличной к правде и добру. Он был в литературе «homo moralis», «человеком моральным», борющимся за добро, выносящим приговор злу. В «башне из слоновой кости» он не искал защиты от насущных, горячих проблем жизни. Его «башня из слоновой кости» служила оборонительным бастионом, складом духовных ценностей, культурных сокровищ. Он не отгораживался от жизни, но судил мир с позиции культуры, с позиций гуманизма и духовности. Недаром сам он полушутя-полусерьезно писал: