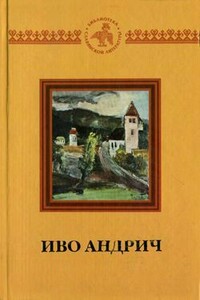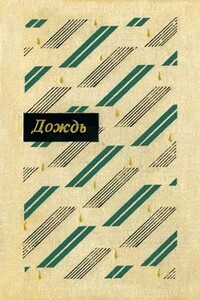Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы | страница 46
Какая ты была тогда красивая, как сияла вся красотой и весельем, как радовалась и невинно по-детски гордилась тем, что нравишься всем вокруг. Тебе всегда была присуща какая-то детская гордость и то шаловливое высокомерие, какое я часто замечал и в себе. Твой взор, взор твоих глубоких синих глаз, когда ты улыбаясь глядела на Мартонека, казалось, говорил ему то же, что с этой самой улыбкой говаривала ты и мне, застав на какой-нибудь ребяческой выходке:
«Ах ты озорник, шалунишка!»
Но он и Бёшке что-то говорил, этот взгляд. Ну хотя бы просто:
«Видишь, каков озорник!»
Все это я прочитал в том выразительном взгляде (каждый взгляд твой был выразителен необычайно), все это я прочитал в нем уже тогда. Но… когда ты внезапно повернула голову к Мартонеку, с этой своей особенной улыбкой, я на мгновение отчетливо ощутил твою радость, радость естественную, радость красивой женщины, которая нравится. Я узнал то же движение, которое заметил и утром, когда у нас сидел доктор, движение, которое так неприятно меня задело. И я вдруг понял, отчего оно меня задело. О, это было одно из самых ужасных мгновений моей жизни. Ибо я узнал в этом движении… узнал ту, другую… которую в той жизни, в моих сновидениях, должен был называть матерью.
И внезапно — когда над тяжелой тонкотканой камчатной скатертью еще звенел веселый смех, не проникая уже в мои оглушенные уши, когда я еще видел вокруг непонятно сияющие улыбками лица, — внезапно меня ужаснула эта мгновенно промелькнувшая мысль, и вся душа моя содрогнулась, как будто обрызганная отвратительной грязью, бог знает откуда взявшейся, из каких миров. Я чувствовал, что навсегда, на всю мою жизнь, непоправимо, несмываемо запачкан этой мыслью. Я, чистый мальчик с благородной душой, всегда видевший окружающий мир чистым и благородным, открыл внезапно, что эта сияющая чистота, даже самая сияющая и самая чистая, таинственным образом неразделимо смешана в неведомых глубинах моей души с отвратительной грязью. Это было так ужасно, что я не мог уже ни что-либо видеть, ни думать о чем бы то ни было. Я стал вдруг рассеянным, раздражительным. Не слышал смеха и шуток, не видел веселых лиц вокруг. Сидел безмолвный и мрачный.
Это заметили, заметила Ненне. Она ведь все еще опекала меня, словно младенца. Я слышал, как она шепнула матери:
— Взгляни, мальчик стал krantich[4].
— Ты нездоров? — негромко спросила мама.
В другое время я ни за что на свете не признался бы в недомогании или слабости посреди подобного общества, но на этот раз ответил даже с каким-то непонятным вызовом: