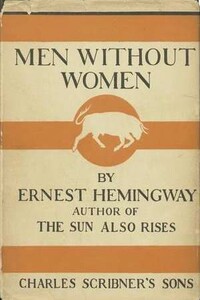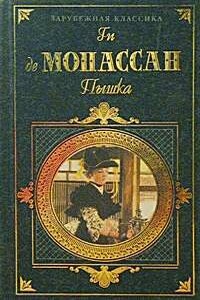Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы | страница 37
Было жарко. Младенец наконец заснул, сморило и меня, может быть, я уснул тоже. Ох, как же было мне хорошо! На мгновение показалось, будто я прилег и задремал на роскошной мягкой кровати, среди подушек, а постель теплая, волшебно чистая, даже прикоснуться к ней — наслаждение. Я блаженствовал, всем телом ощущая тонкое белье. Ах, как было тепло, приятно! Меня охватило невыразимо сладкое чувство. Я открыл глаза, было темно… Что такое? А все то — опять было во сне? Мне снилось что-то очень плохое?..
Но тут кто-то затряс мою руку, тьма стала красной, жгла, палила веки, шепелявый детский голос выкрикивал мое имя, глаза мои раскрылись, я сидел на солнцепеке, на жесткой, желтой скамейке из реек, ноги одеревенели.
Маленькая мягкая и чумазая ручонка дергала меня за руку, и в ушах звенело от визга трехлетнего стервеца:
— Я сказу, сто ты лентяй, не хоцес кацять блатиску! Сказу, сто не хоцес со мной иглать! Сказу, сто ты спис!
И он ударил меня этой своей крохотной дрянной ручонкой!
— Лезебока ты, длянь, слысис!
Неописуемая ярость охватила меня. И я ни о чем не успел подумать, ничего не соображал. Я только что очнулся от сладкого дивного сна, на мгновение вспомнилось утро, я даже услышал голос мастера, но вместо грузной огромной туши, грязной физиономии, стальных глаз увидел лишь отвратительного карлика, он был гадок, и смотреть на него можно было не вверх, а вниз. Кровь бросилась мне в голову, жестокость, жажда мести всколыхнулись в душе, лицо обдало жаром, в голове трусливо мелькнуло: я же могу одним движением свернуть шею этому гадкому лягушонку! — И показалось, что все, все, кто отравлял мне жизнь: хозяин, подмастерья, хозяйка — все они воплотились в этом гаденыше и сейчас они у меня в руках!
И я, в припадке отчаянной и трусливой отваги, словно солдат, который, предчувствуя неминуемую гибель, яростно крушит все и вся, убивает и матерей и младенцев, стал осыпать ударами, бить по чем попадя этого маленького стервеца. «Убью, убью», — металось в мозгу, но я и не пытался убить, я только бил его, упиваясь собственной жестокостью.
«Вот он, самый счастливый миг моей жизни, — думал я, — это продлится недолго». Словно обезумев, я сжимал руку мальчонки и бил, бил, бил не глядя, куда придется. При этом смутно чувствовал, что поступаю низменно, подло, жестоко, и еще больше ярился от необходимости так поступать, и испытывал от этого еще более острое наслаждение.
Маленький стервец завопил как резаный; изловчась, он впился ногтями мне в левую руку, его державшую, и так защемил кожу, что я невольно разжал пальцы, малец вырвался и с визгом, с ревом бросился к дому. От этих воплей проснулся в колыбели младенец и заревел, ему вторя.