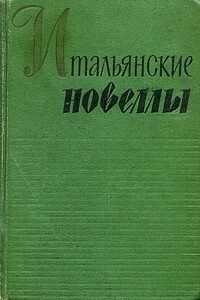Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы | страница 19
Он весь был смех и радость, этот зеленый мир. Свист, пересвист и смех. Резвые солнечные зайчики среди густой листвы, будто смеющиеся ямочки на щеке. Я тоже смеялся, счастливый тем, что наш пикник пришелся на этот дивный погожий день. На подоконник села хорошенькая сизая горлица, я попытался подкрасться, поймать ее. Но она упорхнула, опустилась во двор и, покачивая головкой, важно зашагала по земле.
Тут вошла Маришка, принесла завтрак. Веранду наполнил дразнящий аромат свежепрожаренного кофе. Платок Маришка кокетливо, словно молодуха, повязала назад. Улыбаясь во весь рот, сказала:
— Опоздаете, барчук. Вы ж еще эвон и не одеты.
Я бросился к себе, новое платье, заботливо приготовленное, ожидало меня.
Как хорошо, когда у человека имеется своя отдельная комната. Как восхитительна холодная вода — утром, внезапно, а-ах! Как чудесна прохлада чистого белья! О, как приятно, когда о тебе так заботятся! А битье горшков на пикнике будет?!
Неожиданно дверь отворилась, в комнату заглянула мама, и я, сидя на кровати и уже готовый надеть свежую рубашку, вдруг почувствовал, что непроизвольно метнулся, словно олененок, застигнутый врасплох. Моя мать была так прекрасна, молода, элегантна… и я застыдился одеваться при ней… При служанке — нет, не стыдился. Но тут, увидев это красивое, благородное лицо (мое лицо, говорят, точная его копия), этот аристократический стан в дорогом красивом пеньюаре, я весь втянулся под одеяло, как улитка в свой домик.
Она наклонилась и хотела поцеловать меня в лоб, но я испуганно укрылся чуть ли не с головой.
— Видел ли кто такого мальчишку? Стыдиться собственной матери!
Едва она вышла, я быстро оделся, распахнул дверь, кофе дымился, над белой скатертью склонялась тетя и разливала сливки.
Я любил ее, пожалуй, больше всех на свете. Она была старшей сестрой моего отца, замуж не выходила и жила постоянно с нами. Мне всегда чудилось, будто она соткана из серебра. Волосы на маленькой головке так серебрились, что впору было и обмануться; тонкое нежно-белое лицо с мягкой светящейся улыбкой напоминало серебро филигранной работы; и свет улыбки был как свечение серебра, и голос — я никогда не слышал более серебристого звука, чем ее голос. Но уж точно самой серебряной была ее душа, и голос был гласом души, и улыбка — светом души. Мне кажется, что даже имя ее, каким звали мы ее дома, — само это слово Ненне[2], стоит произнести его хотя бы мысленно, непроизвольно вызывает в воображении тихий серебряный свет, серебристый плеск. Вряд ли я верил, что ее волосы побелели с возрастом: Ненне была молода, изящна, очаровательна, она, вероятно, так и родилась серебристой, словно фея; я вообще представлял себе фей не иначе, как в ее облике — вот такой, какой была она там, над чистой скатертью, свежими взбитыми сливками и сверкавшими в утренних лучах солнца серебряными ложками.