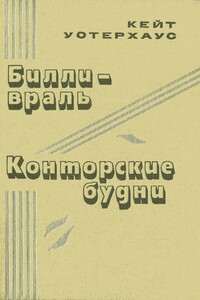Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы | страница 12
Новелла «Одиссей и сирены» (1916) — интересный пример стилизации под миф. Бабич заимствует внешнюю канву мифа, но наполняет новым, современным содержанием, «счищая пыль и ржавчину с античных пластов», как написал о нем венгерский исследователь И. Туроци-Тростлер. Миф об Одиссее писатель стремится прочесть как «лирическую новеллу» о вечной неудовлетворенности, неуспокоенности человеческой души.
Символом жажды неизведанного, «страсти, подобной ветру», становится в новелле пение сирен. Но пение сирен это еще и «смертельный, сладостный звук», символ смерти, которая «манит в обличье красоты». Странствование Одиссея при таком прочтении воспринимается как аллегория человеческой жизни. Песня сирен выражает у Бабича также и вечное стремление человека к свободе, к абсолютной свободе от всяких пут, мешающих ему постигать красоту.
Звучание новеллы не пессимистично, не безысходно. Душа человека «мучается несовершенством», но эта мука рождает и высшую цель человеческого существования: «знать и видеть все», достичь совершенства.
Новелла «Рождественская мадонна» (1909) представляет собой стилизацию под христианский миф. Чудесное явление девы Марии с Иисусом на руках — не безусловная реальность, все это могло быть сном или плодом больного воображения, захмелевшего ума.
Главным объектом исследования в этой новелле, как и в рассказе «Одиссей и сирены», становится стремление героя познать тайну, желание увидеть… такая ли она, дева Мария, на самом деле, как ее рисуют. Стремление рыцаря Артура к познанию греховно, так как он не боится бога, и свято, так как открывает путь к истине. Эту «романтическую новеллу» — жанр ее определил сам автор — можно прочесть и как притчу о «посрамленной гордыне» человека, и как своеобразное обыгрывание «фаустовской» темы: герой, как бы поддавшись искушению дьявола познать тайну, платит за нее жизнью.
«Сюжет из «Декамерона» представляет собой уже «опыт вживания» в произведение литературы. Внешне эта новелла повторяет одну из историй, рассказанных Боккаччо, но в ней отчетливо звучит иная, новая мысль. Скелеты старых боккаччевских образов обрастают здесь новой плотью, обретают другое эмоциональное звучание. К подобному художественному приему — использованию традиционных литературных образов — прибегали и многие русские художники, современники Бабича: В. Брюсов, И. Анненский или, например, А. Блок, о котором Ю. Тынянов писал, что «он предпочитал традиционные, даже стертые образы… ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности».