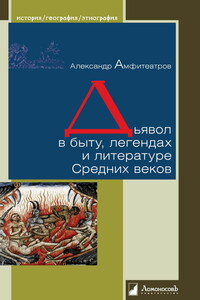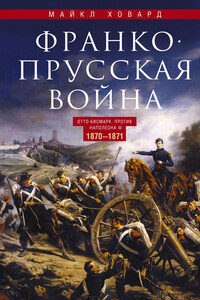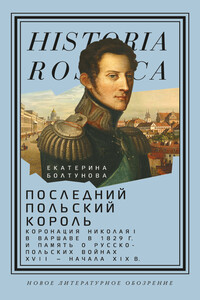Цезарь — артист | страница 63
Страх смерти — христианское начало. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть!» — гласит христианское песнопение. В чудном сонете «Голос из могилы на Аппиевой дороге» итальянский поэт Лоренцо Стеккети прекрасно противопоставляет отношение к смерти сына христианской культуры воззрению язычника-римлянина, говоря от лица последнего: «с улыбкою на устах умирал я — ты умрешь рыдая!.. tu monai piangente!» И чем слабее в душе человека христианские надежды, тем теснее сдружается он с царством смерти, где римлянин чувствовал себя своим человеком. Безобразно частые самоубийства из отвращения к жизни и мрачные свирепости, омрачившие конец XIX века и первые годы XX, — явления, по бездушию своему стоящие гладиаторства, с его бесплодною энергией, равно готовой и на смерть, и на убийства. И период, в котором совершился ряд этих ужасов, ознаменован явным возрождением любви к смерти, проповедью небытия, и в литературе, и в зрелищах, и в общественных развлечениях: Метерлинк, Л. Андреев, Сологуб, Сергеев-Ценский и др. Когда я впервые узнал о громадном успехе парижского «Кабачка Смерти», ныне уже столь устарелого и опошленного, что никому ненужного, мне живо припомнились несчастья одной заезжей египетской труппы в Рим, которая спаслась от голода лишь тем, что стала представлять тайные царства мертвых по рисункам из пирамид. Да и самая идея «Кабачка Смерти» украдена у Домициана: этот помешанный однажды и впрямь до полусмерти перепугал гостей своих подобным погребальным обедом.
Утрата смысла смерти есть утрата сознания нравственной ответственности в жизни.
— По смерти стал ты вне тревог,
Ты стал загадкою, как Бог,
И вдруг душа твоя,
Как радость, встретила покой,
Какого в жизни нет земной:
Покой небытия! —
говорит Майковский Люций. Людям подобных убеждений — как хорошо двумя словами выражено у Достоевского — «все дозволено». Человек живет страстями, телесным озлоблением. Жизнь его превращается — если он натура аристократическая, тонкая, изящная — в Петрониево самообожание, если он чернь — в грязную «карамазовщину». И так как Петрониев мало, а черни всюду и всегда сколько угодно, то, понятное дело, в обществе, руководимом началом «все дозволено», карамазовщина — количественным и грубым нахрапом своим — торжествующе подавляет аристократическое петронианство и властно диктует веку свои законы и вкусы. Те, кто утратил смысл смерти, но не потерял страха пред нею, суеверно обращают ее в свое божество, а жизнь — в жертву, на ее алтаре безразлично сожигаемую. Раз итог человеческого существования — смерть, а жизнь — только сон тела, смертью погашаемый, то естественное стремление спящего тела — разнуздать все похоти и страсти, которые даруют ему приятные сновидения, насладиться своею личностью как можно властнее и полнее, пока не пришла она — всякую личность упраздняющая, всемирная, черная царица Смерть. Ярко вспыхивают две основные зверские черты человека, — вернее, две стороны одной и той же многогранной черты: половое чувство становится инстинктом убийства, разврат начинает выражаться мучительством, обращенным на других, как у маркиза Де Сад и русского Федора Сологуба, или на себя, как у Захер Мазоха. Мы знаем, что в римских амфитеатрах зрелища кровавые сменялись живыми картинами невероятного бесстыдства. Любованье половыми экстазами являлось как бы отдыхом от экстазов убийства. Мы уже видели, что Тертуллиан отождествляет театр с храмом Венеры. Театр, для него, «составляет так сказать консисторию бесстыдства, где ничему иному нельзя научиться, как только тому, что повсеместно не одобряется. Величайшая прелесть театра состоит обыкновенно в представлении всякого рода позоров. Позоры сии выводит на сцену или тосканец похабными своими телодвижениями, или комедиант, переодетый в женскую одежду, своими пантомимами посредством гнусных непристойностей, к которым приучил он тело свое с самого детства, дабы подавать другим пример бесчинства. Сверх того известные бесстыдницы, опозоривающие тело свое перед публикою, не бывают ли на театре тем несноснее, что, показывая в других местах скаредность свою одним мужчинам, тут обнаруживают ее перед другими женщинами, от коих всегда стараются скрываться? Они тут являются перед всем светом, перед людьми всяких лет, звания и достоинства. Публичный крикун провозглашает сих блудниц во услышание тем, которые слишком хорошо их знают. Вот, говорит он, ложа такой-то: чтобы видеть ее, надобно всем пожертвовать, она имеет такие и такие качества... Но пройдем в молчании все подобные гнусности, которые должны бы погребены быть под непроницаемым мраком, дабы не осквернять и света дневного. — О, вы, сенаторы, судии, граждане римские! Покройтесь стыдом и поношением! Сии жалкие твари, потерявшие всякую стыдливость, по крайней мере, боятся иногда показывать перед народом бесстыдные свои телодвижения, по крайней мере, краснеют хотя однажды в год» (перевод Карнеева).