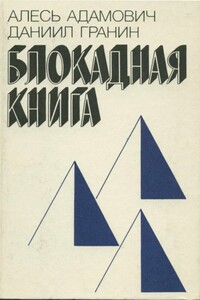Наш дорогой Роман Авдеевич | страница 25
На следующий день Роман Авдеевич как бы невзначай осведомился у заведующего отделом науки,— был такой, поскольку надо было, чтобы кто то ведал наукой — как там дела у Сургучева. Оказалось, что академик не посчитался с фактом избиения его и продолжает выступать в прежнем духе.
Когда Роман Авдеевич увидел его во сне, академик чего-то бормотал. На следующий день он приснился опять и сказал уже явственно: "Лопнет чашка терпения!" Смысл был неясен, но неприятен.
С этого времени начался новый период жизни Романа Авдеевича, период трагических противоречий. Движение наверх требовало поступков, новаторских, заметных, на которые могли обратить внимание. Например, хотелось запретить итальянский фильм, не пускать его в прокат. По всей стране он шел, а в нашем городе чтобы не давать. И концерты рокеров. Шум, крик — почему? В Москву напишут. Из Москвы позвонят, спросят, в чем дело? А в том, что мы блюдем. Идеологию блюдем и не допустим. У вас в Москве иностранцы, дипломаты, вам деваться некуда, а мы чистоту держим, здоровье идеологическое сохраняем. Ну, конечно, докладывают наверх — вот, мол, что позволяет себе. А там на это вполне благоприятно замечают — молодец, твердый мужик, линию хранит, ничего не боится. И, явственно представив себе все это, Роман Авдеевич не мог удержаться — запрещал.
Бояться ему было нечего, устройство нашего механизма он изучил: чем правее, тем вернее; запрещай — не ошибешься; тот отвечает, кто разрешает,— всё это были азбучные истины. Мучило другое: всякий раз, принимая решение, он прикидывал, во что оно может обойтись, теперь-то цена была известна. Но ведь иначе не выкарабкаешься. Чтобы приблизиться, надо что-то совершить. А уменьшаясь в росте, можно дойти до того, что нельзя будет его взять туда, наверх, на самый верх,— неприлично станет, потому что есть предел. Правда, там, на самом верху, там пределов нет, там и совершать такого, чтобы уменьшало, не обязательно, там можно, наоборот, разрешить себе и ослабить, страху поубавить.
В понятии "самый верх" не было ничего отвлеченного. Роман Авдеевич имел на сей пост образ зримый, до малейших подробностей. Полыхали знамена, медно гремели духовые оркестры, и он, Роман Авдеевич, в цепочке нескольких человек поднимался по гранитным ступенькам на трибуну Мавзолея — на самую верхнюю трибуну страны — и занимал предназначенное ему место в коротком ряду людей, расположенных по обе стороны от Хозяина. Лицо каждого, здесь стоящего, было известно стране, их портреты плыли, колыхались над колоннами демонстрантов. Все глаза были устремлены наверх, к ним поднимали детей, чтобы те видели. И он, Роман Авдеевич, приветственно поднимает руку, отвечая их радости. И тогда внизу по площади перекатывается мощное "ура-а!", по всем прилегающим улицам, по всей стране. На боковых крыльях уступами стоят десятки, сотни избранных, и они тоже поглядывают не столько на идущих по площади, сколько наверх, на посвященных.