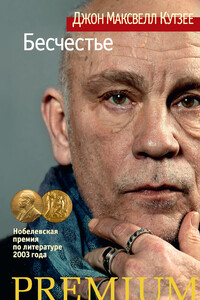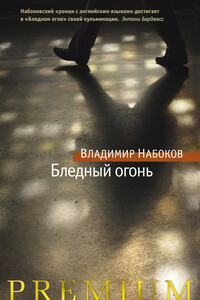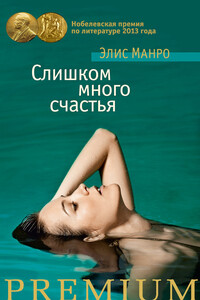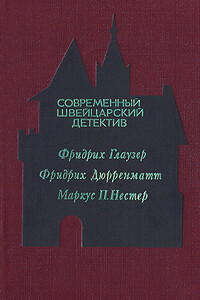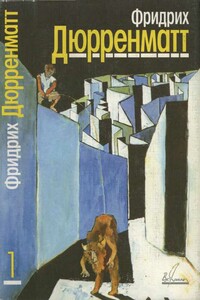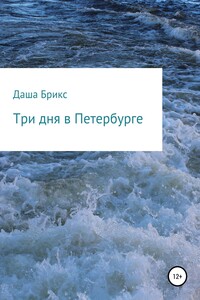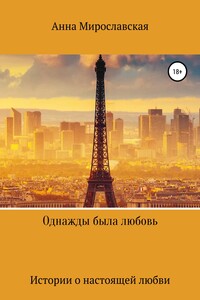Лабиринты | страница 69
Я вырос в христианском мире, не отпустившем меня и позднее: мой сын стал пастором. Люди, входившие в круг общения моих родителей, были набожны, христианство было точно стена, возведенная из веры, и я натыкался на эту стену везде, где бы я ни был, – в Берне, на каникулах, когда учился в христианской семинарии или когда жил у крестьянина, знакомого родителей, на ферме, где ухаживал за скотиной и помогал на сенокосе. Окружающие, взрослые, практиковали буржуазно-крестьянское христианство, и отнюдь не лицемерно, как сегодня многим кажется. Этих людей еще устраивал тот порядок, в котором они жили и в который верили, если же в чем-то он переставал их устраивать, то в этом, считали они, виновато неверие. Этот порядок был угоден Богу, а так как в него входило и государство, то противоречия между патриотизмом и христианством не возникало. Классовые различия людей угодны Богу: как существуют различные расы, так же Бог создал и горожан, крестьян и рабочих, богатых и бедных, он каждому дал достоинства, тяготы и обязанности. Эти люди отвергали социализм, так как он возник не из христианской веры и запятнал себя атеизмом; только действенная вера может помочь ближнему: одну десятую своего денежного содержания отец откладывал для бедняков. Эти люди не были антисемитами – однако не сомневались: евреи распяли Христа и теперь должны это искупить. Они старались жить по Библии, но времена-то стояли далеко не библейские. Этих людей приводили в полнейшую растерянность колоссальные события, изменившие мир. Госпожа Хан, жена пастора, погибшего в Риге – его застрелили «большевики», – иногда приезжавшая в деревню, глубоко почиталась как мученица. Эти люди были крепки в вере, сообщения базельской и магометанской миссии они воспринимали как победоносные сводки с полей сражений и не догадывались, насколько сами они бессильны, потому как втянуты в аферы обедневшей мировой экономики, стали пешками в игре политических рыцарей удачи и отчаянных авантюристов крупного финансового бизнеса, жертвами гигантских торгашеских махинаций и огрехов планирования. Церковь, намертво связанная с буржуазией, слишком уж торжествовала – как раз в Бернской области, под крылышком у кантональных чиновников, которые постоянно использовали ее авторитет для упрочения своей власти, отнюдь не страдавшей излишней щепетильностью. И все же я не могу утверждать, что эти христиане были всецело в плену иллюзии – нет, они терпеливо дожидались окончательной победы своей веры в этом безнадежном мире. Так отчего же не признать их право уповать на утопию, если оно признается сегодня за любым марксистом и составляет его славу? Только потому, что они крестьяне и бюргеры и вера у них иная, чем у марксистов, – ведь марксизм тоже вера. Потому, что эти люди верили не в классовую борьбу, а в борьбу веры против неверия? Причем эта вера, если понимать ее буквально – а многие понимали ее буквально, – стирает классовые противоречия. Без надежды их вера тоже была бы невозможной, если вообще не смешной. Уже моя деревня не была «христианской»; насчет того, что такое «христианское», у самих христиан были различные взгляды, точно так же, как марксисты сегодня по-разному понимают, в чем чистое содержание их учения. Мой отец, невзирая на царивший в его религиозной общине разброд, все же сумел сохранить в ней мир, это и есть его главная заслуга, даже в самом абсурдном сектантском учении он находил след истины, в которую верил сам. Размышляя об отце, я все чаще думаю, что проблематику своей веры и своей деятельности он сознавал глубже, чем я мог предполагать, что он часто сомневался, однако был человеком долга, и в этом состояла суть его благочестия. Он слепо повиновался своей вере с полным сознанием своей слепоты. Поэтому он никогда не оказывал на меня давления в делах религии. Я не чувствовал, что происходило в его душе, потому что он был моим отцом: не существует большей отчужденности, чем та, что разделяет отца и сына во имя свободы их обоих. Горожане, крестьяне и рабочие уважали его, поэтому мне, в качестве его сына, жилось непросто. Для ребенка реальность – это его родители, они реальнее, чем все остальное, чем легенды и сказки, их влияние реальнее, чем влияние школы; после них идут другие взрослые, близкие с родителями, затем – другие дети и все люди, вместе с кем мы живем в иерархически устроенном мире. Особенно в деревне. Она выявляет человеческие типы. В деревне все на виду, функция каждого известна и каждый един со своей функцией: глава общины, пастор, врач, учитель и так далее. К сыну пастора в деревенском мире вполне определенное отношение. Он сын своего отца, слабое звено в семье человека, имеющего четкую нравственную позицию. Глядя на сына, оценивают нравственную позицию отца; зная нравственную позицию отца, оценивают сына, а так как мой отец был примером для всей деревни, то обо мне судили по нему. Деревня жестока. Еще беспощадней дети. Сын пастора – не свой среди них. Он другой. От него многое скрывают, взрослые тоже говорят с ним не без опаски, предпочитают молчать, когда он рядом. Сын пастора живет вместе с детьми деревни, но не становится одним из них. Дети лишь терпят его. Относятся к нему с подозрением, не прочь и поиздеваться. Я никогда не понимал, к какой детской компании отношусь. Я играл в футбол то с мальчишками с Тунской дороги, то с теми, что жили на Бернской, то с ребятами из Грюнэгга. Я стал одиночкой и, понятно, взбунтовался против того, кто сделал меня одиночкой, против отца. Моя вера вначале только питала мои фантазии на темы «Пути паломника» Баньяна, религиозных диспутов Кара Бен Немзи и хаджи Халефа Омара.