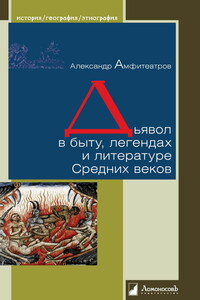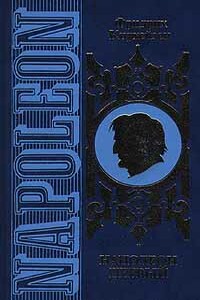Золотое пятилетие | страница 65
И — «после короткого молчания» — веселье восстановилось. — Никогда я не думал, чтобы было так легко убивать! воскликнул юный преступник француз Gigax, покончив свое первое двойное убийство, после которого он отправился в фотографию снимать свое изображение на ограбленные деньги. Во время сеанса он был совершенно свеж и спокоен, причем на его лице отражалась такая ясность, что, по словам фотографа, было даже приятно смотреть (Дриль). Его сообщники, Вольф и Руф, после преступления, отправились ужинать и пригласили в свою компанию какого-то первого встречного рабочего. Когда, сутки спустя, их арестовали, их случайный собутыльник не хотел верить в их виновность. — Это невозможно, — убеждал он, — не едят с таким аппетитом, имея два убийства на совести! Французские убийцы-подростки, оставившие след в уголовных летописях, знаменитые Абади, Лепаж, Капе и др. — все, без исключения, поражали своим спокойствием по совершению кровавых злодеяний. Легкое, будничное отношение к кровавому акту дает этим жертвам преступного предрасположения выдержку хладнокровной сосредоточенности, которую редко сохраняют случайные убийцы. По словам профессора Жоли, «у сутенеров и мужских проститутов скоро вырабатывается в сообществе им подобных зверей характер, дающий им возможность ни перед чем не отступать. Они постоянно бывают расположены совершить убийство из-за слова, из-за пустой фантазии, на пари, самое большое — для кражи и притом для кражи всего нескольких франков». Жоли объясняет эти несомненные явления «презрением к человеческой личности, развивающимся у подобных субъектов». Это положение совершенно сходится с теми заключительными строками первого тома «Зверь из бездны», в которых я характеризовал позднейший самостоятельный режим Нерона, как «век убежденного и торжествующего неуважения к человеку».
Никто не исключая даже сестры Британика, нежно любившей брата, императрицы Октавии, не был так взволнован, испуган, подавлен неожиданным бедствием, как Агриппина. Ужас ее был всеми замечен. Смерть Британика упала, как снег на голову. Агриппина узнала свой яд, работу Локусты, — и поняла, что сын вырвал у нее из-под ног последнюю опору, что она разбита наголову и брошена на край пропасти: юноша, который так спокойно отправил на тот свет брата, не поколеблется, в случае надобности, послать вслед за ним и мать. Напрасно старалась она принять спокойный вид: испуг и скорбь ее были так очевидны, что возбуждали всеобщее сочувствие. Всем стало ясно, что если припадок принца последовал не от падучей, но от яда, то Агриппина, — на этот раз, не в пример прочим, — здесь ни при чем. Скорбь Агриппины по Британику отмечена даже анти-неронианским памфлетом, трагедией «Октавия», выплывшей на свет, вероятно, в эпоху первых Флавиев и написанную неизвестным автором в манере Сенеки которому ее многие и долго, но напрасно приписывали, — главным образом, на том основании, что в этой трагедии чрезвычайно много схожих выражений оборотов с «Сатирой на смерть Клавдия».