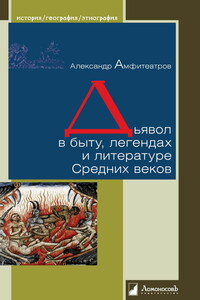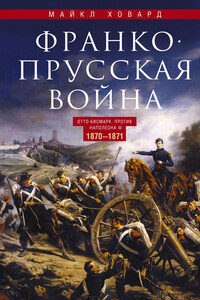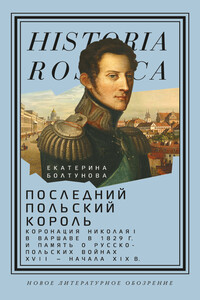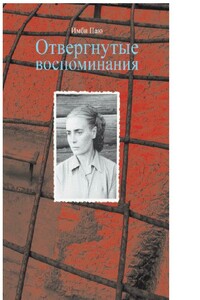Золотое пятилетие | страница 58
Нерон струсил. Он знал характер матери и, видя бешенство Агриппины, слыша ее ругательства, понимал, что если она уже грозит ему кулаками и призывает на голову его нечистую силу, то, значит, она и в самом деле способна компрометировать его, да уже и компрометирует. Был говорено выше, что вряд ли Нерона, в то время мальчика от десяти до пятнадцати лет, посвящали подробно в интриги, сплетенные для его возвышения. Прикосновенность Нерона к убийству Клавдия обличается лишь указанием Светония на нелюбовь юного цезаря к памяти своего предшественника, да остротой самого Нерона, что «грибы — любимое кушанье богов». Но нелюбви и презрению к Клавдию Нерона выучил, конечно, прежде всех Сенека — блестящий автор «Отыквления» и трактата «О милости». Мы видели, что оба эти произведения, хотя и в разных тонах, но одинаково настойчивая школа анти-клавдианства. Мальчику только и твердили, что — будь не похож на это посмешище рода человеческого. Острота же свидетельствует лишь, что Нерон знал, как умер Клавдий, но не говорит — когда он узнал. И сатира, и трактат, понятно, вовсе замалчивают преступление, а историки винят в нем одну Агриппину, а не семнадцатилетнего Нерона. Весьма может быть, что лишь теперь злобная откровенность матери открыла последнему бездну, из которой возникло его царственное могущество, во всем ее демоническом ужасе. Человек, который почитал себя, со слов воспитателей и руководителей своих, ангелом, посланным с небеси, чтобы умиротворить и облагодетельствовать человечество, вдруг осведомился, что он — черт, выкинутый адом. Это острый психологический кризис, который средневековье впоследствии пыталось разрешить легендой о Роберте Дьяволе. Это — тяжкий и мучительный перелом молодой души, в которой язвительное откровение пессимистической действительности сразу выжигает и вытравляет все, заготовленные образованием, идеалы и миражи.
История знает многих принцев, которые отказались от возможности стать государями, потому что она была обусловлена преступлением. История знает принцев, которые, имея право на престол, не дерзали вступить на него, потому что чувствовали свою совесть обремененной тяжким преступлением. Знает, наконец, государей, которые, восприяв власть через тяжкое преступление, хотя бы даже совершенное и не их руками и волей, всю жизнь потом мучились своим нравственным несоответствием сану и даже, не стерпев, слагали его. Но все эти принцы и государи были или христиане, или, вообще, люди мистического миросозерцания, верующие в загробное возмездие, воспитанные евангельским или близким к нему философским идеалом и напуганные своей житейской рознью с теми внушениями, которые обусловливали их этику и слагали религию. Нерон евангельского идеала не знал, мистиком не был, а воспитан был практической земной мудростью, которая гласила, что власть есть высшее благо, что государь есть бог на земле, и, впоследствии, будет богом на небе. Уму гордому, пылкому, жизнерадостному, даже и при воспитании христианской этикой, отречься от верховной власти — огромное, в большинстве случаев, непосильное испытание. Екатерина II вступила на престол путем военного заговора, более решительного в династической ликвидации своей, чем какой- либо другой в новой истории: зачеркнуты были сразу обе ветви потомков Алексея Михайловича — и по Петру, и по Иоанну.