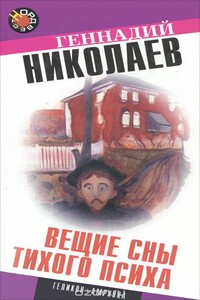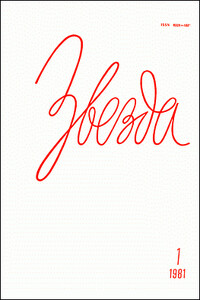Хранилище | страница 19
Я вздрогнул: показалось, что слова эти он произнес с акцентом, как Сталин.
— Должен предупредить,— продолжал лейтенант,— здесь у меня особая зона. Особая! Потому и права у меня особые! Если что, не с тебя спросят — с меня! И лучше, парень, не лезь, а то ненароком могу запечатать — никто не распечатает. В Хранилище... Понял?
Перед глазами плыли ящики, сумрачные проходы, крысиные морды. Я засыпал, слова лейтенанта тормозились, вязли в коротком пространстве, отделявшем нас друг от друга...
Вспоминался поезд, на котором ехал сюда. По билету нижнее сидячее, но когда протиснулся через забитый людьми тамбур, понял — не до жиру.
Их называли амнистированными — рваные бушлаты, прожженные телогрейки, пятна от содранных зэковских номеров на спине и ватных штанах, бескровные лица с мертвыми глазами — страх, тоска, усталость. Сидят, лежат вповалку плотной притихшей массой, переговариваются вполголоса, шепотом. Сизые пласты дыма колыхаются в проходе — нечем дышать.
Я присел с краю, чуть сдвинув чьи-то босые сопревшие ноги, откинулся на спинку сиденья. Поезд тронулся. По проходу, перешагивая через сундучки и котомки, двое милиционеров провели оборванного, заросшего человека в галошах, подвязанных веревочками. Он прижимал к груди холщовый мешок комом, неестествегао радостно улыбался, истово кивал налево и направо, порываясь сдернуть с головы драный треух. Милиционер, подталкивая его в спину, повторял: <<Иди, ты! Иди, ты!»
Старик, сидевший напротив с толстой книгой, проводил взглядом странную троицу, вздохнул. Сосед его, лысый, с красными пятнами на лбу, сказал шепеляво:
— Шпятил от радошти.
Старик покосился на него.
— Надорвался...
Поезд прогрохотал по большому мосту через реку. За окном открылись заснеженные поля, затянутые сизой дымкой, черные деревушки, редкие перелески в сумеречных далях. Сибирь выпускала из своих объятий еще один эшелон. Мне уже не раз приходилось ездить в таких вот поездах, до отказа набитых людьми, которых свобода больше пугала, чем радовала.
Я вынул бутерброды с сыром и с колбасой, что сунула мне с собой мама, протянул соседям: «Берите, угощайтесь!»
Старик, поблагодарив, отказался. Лысый, вытерев глаза, осторожно взял бутерброд двумя пальчиками, отломил немного, остальное положил обратно. Потянулись и другие — брали, боясь, как бы не взять слишком много. Я подавал бутерброды и наверх, тем, кто, свесившись, следил за нами. Люди отламывали по крошечке, благодарно кивали, отводили мои руки, указывали на других. В конце концов вся эта горка бутербродов так и осталась почти не тронутой. И мне они не полезли в горло. Я растерянно держал их на коленях, пока лысый решительно не свернул бумагу, в которой они лежали, и не сунул обратно мне в портфель.