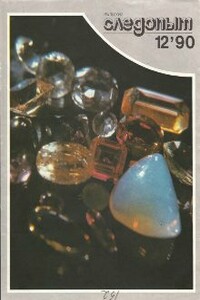Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка | страница 77
В середине года он исчез. Кто-то сказал — уехал, кто-то говорил,
Мехоношина положили в больницу с какой-то странной тяжелой болезнью…
И сейчас я подумала, что лейтенант идет за мной точно так, как шел-ходил тот парень, и я почему-то улыбнулась, хотя на душе было муторно. Все эти месяцы регулярно писала домой и не получила в ответ ни одного письма, мучилась тоской по дому в этой снежной окаянной степи, где, словно в пустыне, было только небо, снег, полусгорелые стены станционных бараков, наши норы-землянки, пушки, дорога и — война… Как здоровье матери? Почему она не пишет? Неизвестность разрывала душу. Из-за нее я теперь не спала по ночам, стоило только раздуматься — слушай до утра храп и стоны девчонок… Письмо. Хоть бы одну строчку от матери.
— Ну, что, Одинцова, — спросил лейтенант, нагоняя меня. — У колодца… простимся… Как в песне.
Опять попыталась улыбнуться. Не получалась улыбка. Мне бы лучше заплакать. Убежать от него. Зачем идет?
Лицо у него было темное, смущенное и слепое, как у того Мехоношина.
— Эх, и посидеть-то негде, — пробормотал он. — Ни доски, ничего… Степь проклятая… Погоди, может, на станции чего найду… — Пошел к обгорелым стенам барака, где все мы добывали топливо для печек в землянках. Если бы не этот барак, вообще непонятно, чем здесь топить. Говорили, кизяком. Лейтенант исчез в разломе стены, а я все смотрела и сравнивала его с парнем из десятого. Правда, был чем-то похож. Не внешне, а так, в манере держаться. Вот он уже идет обратно, несет какой-то обломыш горелого бревна.
— Скорей бы отсюда, — сказал он, бросая на землю бревно, отряхивая руки и шинель. — Степь… Надоело… Тоска белая — больше ничего… Садитесь… Садись… Посидим.
Сели на это бревно. Стрельцов молчал. Я тоже. Он стеснялся — понимала это и храбрилась, хотела что-то сказать, а молчала. Не могла. Хотела сказать, что не рада… Уезжаю, не знаю зачем. Куда — неизвестно.
Остаться бы на батарее до победы. Теперь, после Сталинграда, Победа будет. Хотела еще сказать что-то, смотрела сбоку на худое, копченное орудийным дымом лицо лейтенанта, видела: тоже молчит, мается. «Два дурака. Школьники..» — это так думаю и представляю сейчас. Тогда так не думала, просто молчала, чувствовала, как алеет, наливается огнем щека, та, что была к лейтенанту.
Он вытащил пачку папирос. Закурил (хорошо ему, курит, может, это помогает). Затянулся, выдувая дым, топорщил бровь, глядел куда-то на сапоги, наконец сказал: