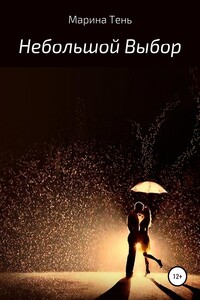Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка | страница 54
Все это плыло в голове, пока собиралась с мыслями, робела, удерживала себя, да и кто дал бы мне слово, какой-то девчонке, младшей сестре… Собрание кончилось, надо было идти по своим отделениям, палатам, этажам.
Я захотела пить, побежала в вестибюль, где еще по-школьному стоял на табуретке бачок под сборчатой марлевой накидкой, и столкнулась тут с красивой сестрой из первого отделения Зиной Лобаевой. Лобаева была брюнетка с крупным, волнистым носом, сочными губами навыворот и прилипчивым, что-то откровенно обещающим взглядом. Говорили, она уже была на фронте. Зина пила воду из эмалированной рябенькой кружки, прицепленной к баку на брякающей собачьей цепочке. Пила крупными, долгими глотками. Скосив на меня глаза со странными продолговатыми зрачками, она оторвалась от кружки, вытерла губы мягкой, пухло-белой рукой и сказала:
— Будь оно все проклято… Опять на фронт. Вот беда-то. — И, уловив мой взгляд, его выражение и осуждение, добавила: — Эх ты, му-у-ра… Чего пялишься, дурочка? Да я этого фронта наелась — во… На всю жизнь..
Полгода моталась, маялась… В окружении под Смоленском была, под Вязьмой. Едва вырвалась… Раненых на себе тащили… У нас командиры — стрелялись. Зелень..
— Как же ты… вы… здесь? — пробормотала я, стесняясь, что Лобаева точно угадала мои мысли.
— А меня — ранило, — усмехаясь своими губищами, повела бровью Зина. — В это место. — Бесстыдно показала куда. И, оглядывая меня глазами плачущей, смеющейся ли овцы, добавила: — Погоди, испытаешь и ты… Там нашего брата любят. Особенно таких булочек-дурочек… Не отобьешься..
Не закончив, толкнула недопитую кружку, лихо пошла по коридору, виляя бедрами. А я подумала: чем она напоминает нашу соседку, эвакуированную пожарницу?
IX
Провожать к эшелону никого не пускали. Только на площади, у старого кирпичного вокзала с фигурными башенками прошлого века, что с мирным недоумением глядел стрельчатыми окнами, мельтешила, сходясь-распадаясь на двойки, тройки, пятерки, густая толпа. Кто-то противно, не в лад и по-пьяному завираясь, пилил-рявкал на сиплой, трезвучной гармошке, кто-то из женщин кликушно кричал новые частушки про Гитлера, про фрицев — как им худо было под Москвой. Рыжий, гололицый, скуластый и будто безглазый мужик — говорили, наш повар — ходил вприпляс, наговаривал:
Перед ним тряслась сестра в короткой шинельке. Но частушки сами собой глохли в шуме говора, рыданий-причитаний, ненужных наказов, слез и деланного, из последних сил, смеха. Мать все прижимала меня к себе, боялась отпустить, гладила шинель, треугольнички в петлицах, приникала горестным незнакомо-старым лицом, отрываясь, глядела ничего не видящим взглядом, а я думала — вот оно, худшее, о чем и не представлялось, — прощание с последним родным человеком, и, как ни крепилась, не могла выдержать этой мысли — слезы текли, губы кривились не моей волей. Кое-как совладала с собой. Да еще, спасибо, подошла Валя. Ее провожали отец, мать, бабушка, брат и сестра, какой-то еще черноглазый молодец в шинели с двумя синими кубиками. Мелькнуло поодаль бледное лицо Виктора Павловича. Провожал Валю издали, оставался дома, инвалид, ему ничего не грозило.