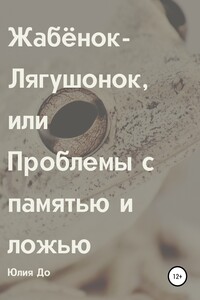Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка | страница 45
Вскоре у беженки появился даже патефон. Заезженные хрипучие пластинки. Чуть вечер, сбиралось, гудело голосами веселье. За полночь компанией укладывались отдыхать, через тонкую стену слышалось все, о чем не принято писать и говорить.
Квартирантка цвела, обзавелась шелковым платьем, туфлями, чулками. О муже-пограничнике не вспоминала. Да и был ли уж он? Она не бедствовала с продуктами. Друзья щедро несли хлеб, сыр, лярд, тушенку. В комнату к нам доносило запах жареного мяса и густого супа.
Приходя из госпиталя со смены, я долго не могла уснуть, когда гульба расходилась. Тяжело было слышать в такое время, да еще в моей комнате, от которой никак не отвыкла, помнила и жалела, эти наглого тона пьяным-пьяные голоса, хохот девочек — всех подружек беженки звали как-то одинаково: Ася, Тася, Тося, саму квартирантку — Юлия. Правда, пластинок у компании оставалось все меньше, пока не осталась одна, зато любимая, вот эта, где «утом-ленное солнце нежно с морем про-ща-лось..». В этом месте пластинка всегда щелкала, заедала, повторяя: «Прощалось… прощалось… прощалось…», и я уже знала — сейчас последуют крики, шум, толчок и патефон продолжит петь механически-петушиным голосом все о том, что «р-а-с-с-т а-в а-а-а-я с ь, мы… не будем п л а-а-к а т ь. В-и-н о-в-а-т ы в этом ты и я… Немножко в з г р у с т н у-у-л о с ь… ат таски, ат печа-а-л и…».
— «От печали», — вздыхала мать. — Гарцуют… Что им… — Сгорбленная, темная, сидела на голой почти кровати — семидесятилетняя старуха. Ей не исполнилось еще сорока.
И я думала, слушая патефон, глядя на равнодушно подмигивающий огонек коптилки — глаз тьмы и войны, кто же, кто писал такие приторные, пахнущие тройным одеколоном и фанерными эстрадами парков культуры, прокуренными сутенерскими бильярдными слова об «утомленном солнце» и о том, как «немножко взгрустнулось». Кто? Да, наверное, такой же, как люди за стеной, не вылезавший из этих курортов-отдыхов, с этого не виденного мной открыточного моря, где «ки-па-ри-сы и ро-о-зы!» и «нет любви».. «Немножко взгрустнулось!» — расходясь, базарно вещал патефон под взрывы хохота, видно, кто-то что-то изображал или задирал подол, судя по визгу, а я думала: «Вот она — жизнь! Вот — война… Вот недавняя моя «челюстно-лицевая», где и сейчас маются умирающие, лежат без надежд, или кто-то там заживо горит в Сталинграде, отходит от ран в санитарных поездах, томится под немцами, роется в золе пепелищ, рыдает над карточками убитых, достаивает фронтовую смену. Вот моя мать, которая извелась с тоски, потеряла человеческий облик, и вот люди за стеной, женщина, что также ничего не знает о своем муже и не плачет, не сетует лишне, живет, точно бабочка, и плевать ей, им на все на то, что где-то умирают, убивают, пухнут с голоду, на кругом разлитое горе… «Н емножко взгрустну-у-лось».. Ничего не взгрустнулось этим тусклоглазым, хрипатым, сумевшим отвертеться, этим завитым сукам, что торопятся жить, брать у жизни, что можно взять и успеть. И все это — ВОЙНА. Высшая несправедливость, высшая мера подлости, высшая бесчеловечность. Высшая, высшая… ВЫСШАЯ-А-А!!»