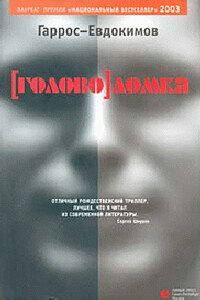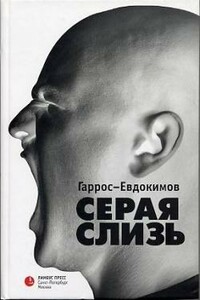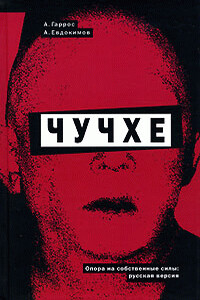Непереводимая игра слов | страница 61
Осень 2007-го, Западная Украина, Закарпатье. Я еду из депрессивного Мукачева в депрессивный Рахив на раздолбанной «двадцатьчетверке». За рулем мукачевский пасечник, угрюмый, вислоусый, тощий, словно скрученный из серых обтрепанных веревок мужик. В Мукачеве я, кинув у него дома рюкзак (надо было дождаться, пока «Волгу» загрузят медом), час болтался по городу, всё более уверенно прощаясь с оставленным в рюкзаке ноутбуком. Через час рюкзак с ноутбуком оказался на месте, багажник «Волги» еще заполнялся янтарными банками, а меня сводило от приступов острого, как перитонит, стыда и неопределимой тоски: пасечник дал мне полистать старый, еще шестидесятых, фотоальбом. На снимках был неузнаваемый, но несомненный он – сотрудник НИИ, мускулистый, голый по пояс советский полубог; улыбаясь победительно, как Шон Коннери, он позировал на горных лыжах, а на нем висли загорелые – видно даже сквозь черно-белое зерно – нимфы с фигурами порнозвезд.
Мы едем молча – я, пасечник и его мама, женщина уж точно за сто, с чертами и достоинством мумии египетской царицы. Поздний вечер 31 октября, Хэллоуин. В темноте за окном «Волги» изредка багровеют тусклые кострища: на кладбищах горят свечи. Выйди сейчас из-за поворота зомби, не удивится никто. Трансильвания лежит вокруг, беспокоя ознобными мурашками вампирских легенд.
Внезапно я вздрагиваю – пасечник нарушает молчание: «А вот здесь у нас географический центр Европы».
За центром Европы садится попутчица. Она компенсирует наше долгое молчание, говоря непрерывно и за всех на дивном наваристом суржике: в смеси русского и украинского плавают венгерские и румынские шматки. «Вот я вчера ходила в Румынию, так там же пенсии ж повысили…» – начинает она. Или: «Вот я вчера ходила в Венгрию…»; с пятачка вокруг хэллоуиновского центра Европы в Венгрию или Румынию действительно можно сходить пешком. Заканчивается каждая история одинаковым рефреном: «Ох, мой бедный, бедный народ!». Скоро оказывается, что попутчица успела побывать и в Китае; неужто вчера ходила?! – нет, летала по челночным делам. Видела мавзолей Мао Цзэдуна. «Из хрусталя зроблен», – констатирует попутчица.
С мавзолея Мао монолог переключается на Сталина. «Вин великий чоловик, – говорит попутчица веско. – Вин импэрию зробил».
И тут пасечник-водитель, чей божественный расцвет пришелся на отринувшие Сталина шестидесятые, и его видавшая проклятый царизм, польскую вильность и бог еще знает что мама впервые синхронно и опять-таки веско кивают.