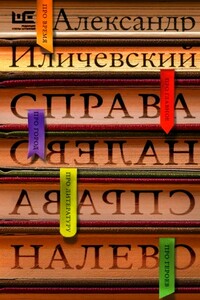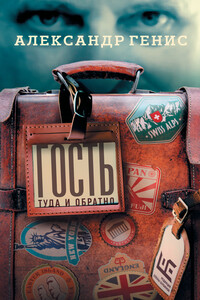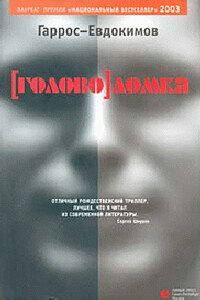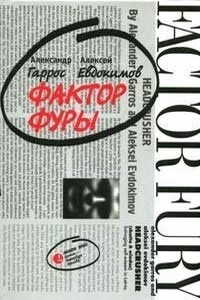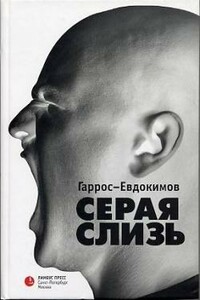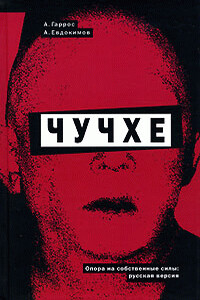Непереводимая игра слов | страница 56
И замечательный писатель Юзефович уходит рассказывать эту другую историю англичанам, неизменно интересующимся, есть ли в России свобода слова и действительно ли мистер Медведев готов начать демократические реформы, выступив против имперской линии мистера Путина. А я бреду в хвост очереди, выстроившейся в ярмарочный бар за алкоголем, и думаю, что замечательный писатель Юзефович меня не убедил.
Это, конечно, выглядит логичным – рифмовать семнадцатый и девяносто первый; революции легко рифмуются с революциями; вот только иногда это ложная рифма, неточная как минимум. Уж больно разным было в семнадцатом и в девяносто первом буквально всё: декорации, настроения, контекст, действующие силы и лица, массовка. Главное же (для нас, коль скоро речь о культурном эхе событий) – огромное различие в позиции творческой элиты.
Творческая элита десятых годов в штурме Зимнего не участвовала, да и вообще в массе своей к большевикам относилась настороженно, для настоящей сепарации потребовалась страшная встряска гражданской – лишь тогда элита разделилась на сторонников новой власти (часто почти невольных, лишь по принципу «меньшего зла») и ее противников (часто сомневающихся). Не то девяносто первый: уж тогда-то лучшие представители творческой интеллигенции (какие были – не о качественном равенстве с грандами Серебряного века речь, исключительно о статистике) в подавляющем большинстве оказались по «демократическую» сторону баррикад сразу – если не девять десятых, то три четверти точно.
Девяносто первый вообще гляделся высшей драматической точкой упований советской либеральной интеллигенции. Разумеется, у Белого дома собрались самые разные люди – от рабочих до «афганцев», от только-только распробовавших вкус денег младопредпринимателей до только-только начавшей их крышевать младобратвы, – но именно интеллигенция (шестидесятническая если не по поколенческой принадлежности, то по внутренним ориентирам) задавала тон и стиль. Тон и стиль людей, уже слышавших русский рок, но взращенных на песнях Окуджавы, вышедших на площадь «браться-за-руки-друзья-чтоб-не-пропасть-поодиночке», впервые поверивших в действенность этого эмэнэсовского хоровода, – и не зря кто-то остроумный тогда точно пошутил, что это окуджавовский «синий троллейбус» сгорал тогда на миллионах телеэкранов в памятной трансляции CNN.
В упоении легкой вроде бы победы творческая интеллигенция не сочла сожжение троллейбуса символически значимым. Как выяснилось, напрасно. Не ставший символом и иконой, не отлившийся в книги, фильмы и песни, не оплодотворивший культуру и не сделавшийся даже поводом для ностальгии, август 1991-го, да и весь 1991-й, удивительно быстро (по меркам не Истории даже – отдельной человеческой биографии) канул в мертвую зону стыдливого умолчания. «Стыд» – да, вот оно, ключевое слово; «стыд» – и еще «обман».