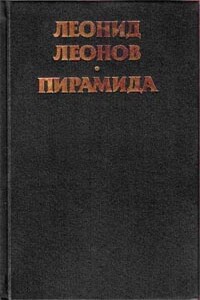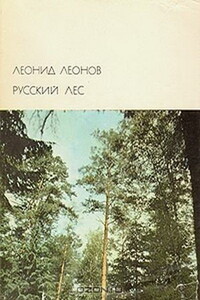Рассказы и повести | страница 97
К ней, прекрасной — словно она держала розовые жемчужины во рту, вышел Халиль, нежданный и нежный, как месяц перед полночью. Тогда порвались все преграды между ними. Схватив его за рукав, она повлекла его в пестрый шатер, где стояли кальяны и узкогорлые кувшины с серандибским шербетом. Уже стучала разбуженная кровь Халиля. На пестрой шкуре, кинутой наспех посреди шатра, они прижались друг к другу.
Но прохладны ясминовые ночи и хотя бы и способствовали любви, зато скорее приближают пробужденье. На заре, когда из гор пришли утренние росы и дерево бан наклонилось по ветру, проснулся Халиль, говоря: — Воистину ты Луна, проходящая ночным небом. Пусть будут для всех безлунные ночи, для меня никогда не угаснешь ты! Сдвинулись удивленьем брови женщины: — Нет, я не Луна. Я Баялунь, дочь Халилева дикхана. Но ты, разве ты не Месяц, который проходит ночным небом, которого я ждала и призывала столько дней? — Нет, я Халиль. Я не хочу знать тебя, Баялунь. Но разве не для меня пела ты свою вчерашнюю касыду? — Нет, я пела для Месяца, который проходит ночным небом… Но разве не Месяц ты? — Нет… Они стояли друг перед другом, оба молодые и нежные, и плакали. Может быть, они плакали о том, что любовь не лишила их языка…
Когда умирал Халиль, луна ему светила прямо в очи, и сердце его истекало любовью, подобно тому, как истекал соком гранатовый плод в саду его. Кричали муэдзины над Хератом.
Будь тогда у Халиля сто языков, он кричал бы, стоустый: — Когда подымаются волны любовного моря, ты не бойся ни молний, ни рифов. Отпихни ладью от берега, а весло выкидывай за борт. И когда будет она разрезать играющие волны, подобно тому, как остроносые корабли купцов йеменских режут мякоть моря в бурю, ты молчи и помни только, что лютня поет не хуже тебя.
Ибо, когда две бабочки соединяются в пахучем лоне цветка, разве плохо, что не слышат и молчанием связываются крепче, чем ненадежными узами слов?
Тебя — да охранит пророк от судьбы Халилевой.
<1925>
― ДЕРЕВЯННАЯ КОРОЛЕВА ―
И уж конечно, ничего тут чудесного нет.
… Ночью однажды сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами — повторял стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamede» в семидесятых годах. На столе позади него пел медленную песенку хромой хозяйкин самовар.
Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна. И как будто кто-то играл на флейте, и, возможно, флейта играла сама.