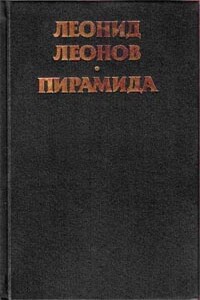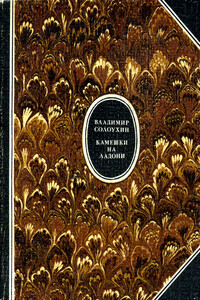Рассказы и повести | страница 79
Именно в этом месте генеральша пронзительно ахнула, ибо увидела у голыша длинный хвостик, и, как подкошенная, свалилась на ковер. Генерал испуганно визгнул. И конечно: при чем тут, право, оторванная нога отца и голова деда?! Разрешите Никанору Васютину быть Никанором Васютиным до конца! Пусть лицо его почернело со страху.
На шум прибежали васютинские люди: босой кучер Федька — он бы самого Вельзевула в бегство мог обратить, потом Марфушка, васютинская горничная, чуть не голышом — известная она бесстыдница, да еще там двое-трое.
Федька оторопело глянул на Долбуна, смекнул вслух: «анчутка», перескочил через барыню и закричал так, что генеральский зуб затих сразу: — Эй, гей! запирай, Марфуша, окна… Мы его в бочку посадим, потешимся. Эй, запирай!.. Но Марфуша, несмотря на все свое бесстыдство и другие гибельные для девушки качества, склонилась над бездыханной барыней. Федька сигнул на Долбуна, но тот кувылькнулся в окно, показал коришневый язык из-за ноги обалдевшему Федьке и прошипел уже из-за клумбы, — а на клумбе росли разные благородные цветы — У-у, падины! Федька отпрянул от окна…
В небе было чисто тогда. Слава тебе, Господи: Столбуниха-то спать пошла. Пора, тетенька!..
И ведь какие случаи происходят: в ту же ночь у Васютина серого выездного жеребца со двора свели!
Ночь катилась медленно. Над полями, над дымящейся синим сладким паром травой разлеглось ночное небо, широкое, как луговина в цветах. По траве елозит тихая зелень в ночной звездящейся тишине. И каких ведь здесь только нет: «большой, автоматический — выбор-с», — как лавочник Сумянкин на Конешемского говорит. И, главное дело: никому и в голову не придет ведь, что зелень-то эта и есть самое счастье. Мне Филимониха сказывала: «расщепи, говорит, пень на Духов день, да поймай и рощеп-то черта носом: что-ни попросишь — все будет; хочешь — денег мешок, хочешь — масла горшок, сруб, корову ли, жену».
Вот над Долдоньевым Кусом пролетело по небу большое, — сзади хвост помелом. Только не Филимониха то: она на богомолье сбиралась.
Долдоньев Кус! — Сто сорок домов да церква Благовещенска. В Долдоньевом Кусе — ох, конокрадов много! Сказывали, будто даже Трифоныч сам по ночам на промысел ходит. Я не поверил: с такой-то бородой, с такими-то глазами? Но врал, конешно, Митька Кузяков неспроста.
Храм зато обширный, благолепие! Конокрад и пить может, и убить может, и Бога не забудет. Конокрад есть русский человек.
А при храме есть, между прочим, дьякон Логин. Труба! Труба, а не дьякон, — зверь! Многолетие зачитает, — беги, убьет! Достигает дух диакона Логина до первого небесного круга, простирается нутро Логиново необъятно. Еще когда в стихарь посвящали — крепко пил: труба промывки требовала. Был неоднократно потому в крайней опасности жизни. О! Ему б полководцем быть! Саблю, пушку и коня!