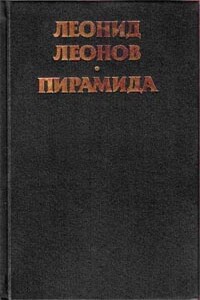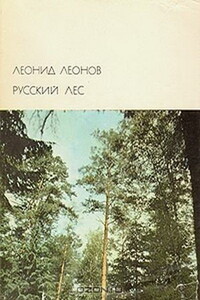Рассказы и повести | страница 128
А солнце шло над полями, разрывая облачные путы, и беззаботные под солнцем чирикали воробьи на нестаявшем снегу, в углу сорном двух монастырских стен. Тогда была ледоходная, бурливая пора, и на пестюрьковской безназванной речке тронулись льды. И шли ватагами теплые ветры, и когда подходили к колокольне монастырской, сами веселым гулом гудели колокола.
А за парчой, обнаженные дневным светом и не одной сотней остановившихся в безумном ожидании глаз, голые лежали на лиловом блеклом шелку темные немногие кости Пафнутия и малый череп его. Некая серость была в нем, и дряблость распадающегося дерева, и грустная умилительность горько обиженного ребенка. Потом жуть правды, выставленной напоказ, была.
Стояли в первом ряду Савосьян с Алешей, две бабы — одна бельмастая, другая брюхата на седьмом, мужичок с хохолком напереду и слепец-нищий, зорко внимавший шелушивым ухом свершающегося пролома ходу. Едва стихли все… на весь храм слышно стало, как соседка соседке жарко шепнула: «Чего жмуришься… глянь-ка лучше, что лежит перед тобой!» И та отвечала тем же смятенным шепотом: «А чего ж, он тебе любым предметом прикинуться может: на то и святой он!» И тут, приседая плечом, ворочая затекшей от напряженья головой, как-то нечаянно, — никто не ждал, — взял слепец вытянутой сухой рукой череп Пафнутия и, большие, черные свои пальцы вложив в глазные костяные Пафнутьевы впадины, произнес негромко — скрежещущим плясом отдавали слова: — А вот тут у нево, у старичка, глаза были… и не стало. Эко дело!.. И тогда в тишину, которая как омут, острым колом ввалился надрывный, сверлящий крик забившейся кликуши. Пробегал мелкосеменящей рысцой игуменской вышки Устин Петухов выводить припадочную бабу, — проснулся мгновенно Митроха Лысый в Мельхиседеке, а в Митрохе злой персюк, и звенящим голосом, как плевком, обрушиваясь на Талагана, гаркнул яро Мельхиседек: — Конокрад!.. Сомкнулись бормочущим кольцом; ропота шорох глухой, но растущий быстро, прошуршал осенним листком. А Мельхиседек, вконец покинутый духом смиренномудрия, терпенья и любви, не смыкал разверстой Митрохиной глотки: — Эй, ты, дьякон, — гони их взашей! Подсвешником по шеям, сволоту… В разбредающемся гуле медленно повернул вместе с головой в Мельхиседека пегие навыкат глаза Якайтис и шею побагровевшую почесал карандашом и рванулся нерусским словом: — Ччито-о? Но остановился, как остановилось все, смиренное железным взглядом голубого человека: — Нну, вы!! И продолжал: — Вы б потише, отец, здесь как-никак церква, а не кабак-с. Поворотясь к человеку Порфирию Мохлину, проговорил полным голосом: — Вот вы о деликатности говорили… Э, какая тут к черту…