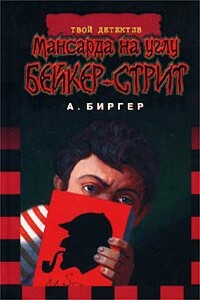Москва - Варшава | страница 13
— Нет, не имеется. А что?
— Бигос лучше всего хранить в глиняных горшочках. Значит, и горшочки поглядим.
И после завтрака мы отправились за покупками. Мы прошли по Арбату ещё не пешеходному, ещё такому обшарпанному и милому, с толчеей на тротуарах и с немыслимым движением на проезжей части. По пути, завернули в один из знаменитых арбатских букинистов, и там нашли старое издание баллад Мицкевича, где баллада «Будрыс и его сыновья» была дана в пушкинском переводе. В этом издании были замечательные иллюстрации, я навсегда запомнил фамилию художника — Домогацкий.
— Это мой подарок тебе, — сказал я. — Надписывать не буду. Дома можешь сказать, что сама купила. Но, открывая эту книгу, ты ведь будешь вспоминать обо мне?
— Да, конечно, — она взяла меня под руку. Ее глаза сияли. — Тебе бы надо побывать на площади Старого Рынка в моей родной Познани…
— Ты из Познани?
— Да. Хотя сейчас живу в Варшаве. Так вот, там такие знаменитые букинисты, их даже называют Меккой библиофилов, и туда из Европы приезжают любители редких изданий, из других стран…
Она весело продолжала болтать. Кажется, она была по-настоящему счастлива.
В магазине сувениров мы купили семь глиняных горшочков («Семь хорошее число», — сказала она), а в «Смоленском» — все необходимое для идеального бигоса, отстояв очереди, и две бутылки красного вина, «Арбатского». Когда мы вернулись домой, она надела фартук и стала колдовать над бигосом — но не прежде, чем мы опять свалились в постель и откупорили первую бутылку.
Я сидел на кухне, курил, любовался ей.
— Расскажи мне о Познани, — попросил я.
Она ненадолго задумалась.
— Познань?.. Это чудесный город, замечательный город, один из красивейших городов Европы. Хотя после войны его довольно основательно пришлось восстанавливать, как и Варшаву, и Краков. Видел бы ты нашу ратушу! А перед ратушей есть фонтан… Фонтан со статуей Прозерпины.
— Прозерпины?
— Да. Представляешь? Она такая… такая парящая, никак не подумаешь, что она — царица царства мертвых. Или, может, скульптор изобразил её радостной, что она вернулась на землю. Когда мне было лет пятнадцать, то подшучивали, что я на неё похожа, и мне это нравилось.
И опять полыхнули её глаза бездонной, полыхающей, расшитой золотыми искрами тьмой. Она хотела сказать больше, но не сказала. А я этого тогда не понял. Только сейчас понимаю. Она хотела сказать, что теперь она сама — как Прозерпина, полгода замерзающая в аду и полгода радующаяся жизни на земле. И что её жизнью на земле теперь станут наши встречи — те моменты, когда мы рядом.