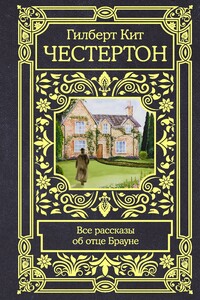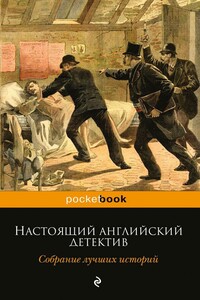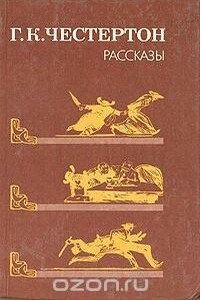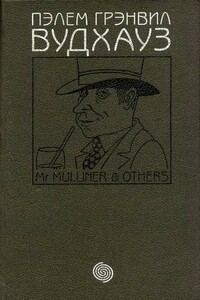Человек, который был Четвергом | страница 98
Если же над «Четвергом» хотя бы немного задумывались, его, как ни странно, считали апологией беззаконной свободы. Казалось бы, опасность совсем иная — книгу нетрудно воспринять как защиту насильственного порядка; так и понял ее, например, Муссолини. Легко представить себе человека, которому мерзка тайная охота за инакомыслящими; людей таких, к счастью, много и сейчас, а среди интеллигенции 20-х годов их было, наверное, больше. Легко представить, что такой человек просто читать не сможет, как сыск приравнивается к мученичеству и геройству. Но нет; те, кто замечал в «Четверге» хотя бы подобие смысла, восхищались его «левизной». Автор предисловия к одному из тогдашних изданий писал: «Когда наступает эпоха отвращения к старым дорогам (…) роман Честертона послужит для вояжеров путеводителем. (…) Занимательность, сделанность, игра контрастами респектабельного с вульгарным, культ современности, темп — это те компасы, с помощью которых открыватели Америк в литературе достигнут своих целей. Глаза для учебы — на Честертона».[*] Более того — намного позже, в одном из сравнительно недавних предисловий английский критик называет «Четверг» великим издевательством над всем благопристойным и установленным, и только.
Попробуем же разобраться в том, зачем писал Честертон эту книгу и чему хотел научить. Начнем издалека.
Незадолго до смерти Честертон, уставший от странных мнений о «Четверге», обратил внимание читателей на подзаголовок «Страшный сон». Вряд ли он хотел сказать, что роман этот — просто несуразный кошмар, который не стоит воспринимать серьезно. Оговорим сразу то, что очень важно, когда хочешь правильно понять Честертона: в одном — дурном — смысле слово «серьезный» было для него синонимом слов «высокомерный», «многозначительный», «самодовольный», то есть в его системе ценностей попросту «глупый». К такой серьезности он стремиться не мог, напротив — всячески ее избегал, иногда сбивая с толку читателя, который начинал относиться к нему свысока. К несчастью, мало кто любит и понимает намеренное снижение тона, то смирение смеха, которое некогда было знаком высокого, истинного юродства. Для Честертона же оно исключительно ценно; недаром он писал, что «секрет жизни — в смехе и смирении». Однако он же сказал: «Я никогда не относился всерьез к себе, но всегда воспринимал всерьез свои мнения». Смешное не стояло для него ни в одном ряду с глумлением и цинизмом, ни даже в одном ряду с бездумной забавой. Он был на удивление, на редкость убежденным человеком и писал легко, но не легковесно.