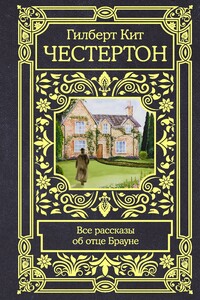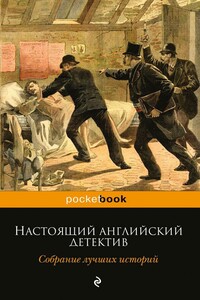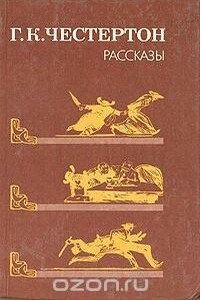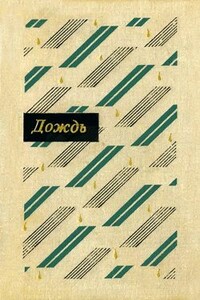Человек, который был Четвергом | страница 102
Однажды, гуляя под вечер по Лондону, он увидел с моста какое–то предместье, «багряное и бесформенное, как облако на закате». Он туда пошел, и оказалось, что это Бедфорд–парк, поселок поэтов и художников. Там познакомился он с молодым Йейтсом, там нашел жену, которая навсегда осталась для него романтически прекрасной, а главное — с той самой минуты, когда он увидел парк вдалеке, он сразу и на всю жизнь обрел радость. Потом его часто обвиняли в благодушии — скажем, оно раздражало Блэра, будущего Оруэлла; некоторых его благодушие восхищало, и зря, ибо он благодушным не был. Радость его сочетала такие черты, как смиренная благодарность и рыцарственный вызов. В тот день он увидел не спину, а лицо мироздания.
Поэтому мир в «Четверге» очень красив. Красив парк, который навсегда остался для Честертона земным раем; еще красивее и намного причудливей сад — или усадьба — Воскресенья. Красива французская лужайка, цветы на ней (мало кто, кроме Честертона, увидел бы в них золото и серебро). Красив, хотя и страшноват, лес, где Сайм испытывает одно из самых страшных своих искушений — все блекнет для него, тускнеет, теряет очертания, а для Честертона это плохо, поскольку его система эстетических ценностей предполагает мир весомый и ясный, где очертания четки, краски чисты и насыщенны (в эссе «Сияние серого цвета» он противопоставляет синему, золотому, алому, да и ясному, сияющему серому «какао, нечищеные ботинки, лицо вегетарьянца» и прочее в том же роде). Еще хуже это в системе нравственных ценностей — неясный мир бликов связан и для автора и для героя со всеразъедающим сомнением. И все же лес красив.
Словом, природа в этой книге почти по райски прекрасна; но прекрасен и город. По меньшей мере трижды — в романе «Наполеон из Ноттинг–хилла», в эссе «Тайна плюща» и в эссе о детективной литературе — Честертон воспел Лондон, «мощенный золотом». В крестьянской утопии («Охотничьи рассказы», 1925), в трактате «Очерк здравомыслия», во многих эссе и в интервью 1930 года, после которого мексиканский журналист решил, что Честертон в лучшем случае большой шутник, он предвещал возвращение в «ту деревню, которая живет в душе каждого городского ребенка». В 20-х годах он проповедовал идеи, удивительно похожие на то, что мы узнали сейчас об идеях и учении Чаянова (Честертон его, конечно, не знал; а Чаянов — Честертона?). Но деревня эта была нравственным идеалом. Ненавидящий индустриализм, «рабовладельческое государство», миллионеров, тресты, крупную торговлю, он видел в честном и крепком крестьянском труде лучший — или единственный — выход из тупика. Современный город был для него порочным — и не бедные кварталы, где живет «шарманочный люд», а прежде всего роскошные, — но только по нравственной своей сути. Он писал, что светящиеся рекламы красивы, как рождественская елка, и любой ребенок обрадуется им, потому что их не прочитает. Что до красоты, до поэтичности — нынешний город прекрасен; Честертону часто удавалось это показать, и в «Четверге», быть может, лучше всего.