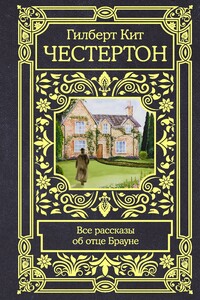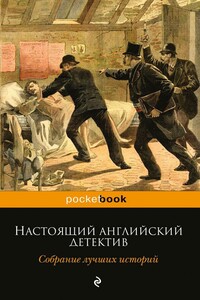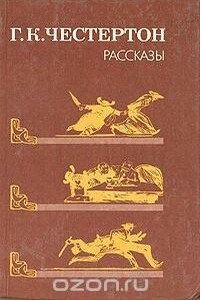Человек, который был Четвергом | страница 100
Когда говорят о Честертоне, особенно о брауновском цикле, почти непременно восхваляют его «психологические прозрения». Конечно, такие прозрения у него есть. Психиатр Антони Кемпиньски считал, что в рассказах о Гэйле (1929) Честертон предвосхитил много более поздние открытия психологии. Сам Честертон слова «психология» не любил. Ему казалось, что это одна из тех наук о человеке, которая рассматривает его извне, словно вещь или «большое насекомое». Естественно, тогда возникают гнушение, превозношение, гордыня — словом, самые страшные грехи в системе ценностей, которой так верен Честертон. Его целители душ, отец Браун и Гэбриел Гэйл, умеющий «заглядывать в бездну, лежащую у его ног», помогают другим, потому что умеют найти в себе то, что есть в них. Может, дело тут в словах, и Честертону просто не нравилось наукообразное слово, когда речь шла о ценности ценностей — человеке; может — и в методах, так что подход Кемпиньски или, скажем, Роджерса не вызвал бы у Честертона неприязни. Однако сейчас нам важно другое: в «Четверге» есть места, не выдерживающие не только логической, но и психологической поверки. Приведу хотя бы такой пример: если внимательно отнестись к тому, как ведут себя мнимые анархисты, когда Председатель завтракает с ними, особенно же когда он разоблачает Гоголя, придется признать, что они не просто боятся, а неприятно и неприлично играют, словно истерические лгуны, которым доставляет удовольствие самое притворство. Кроме того, трое из них хватают разоблаченного сыщика, что очень странно, если учесть, какими благородными людьми они оказываются впоследствии. Да и мгновенное преображение французов можно отнести не только к логическим, но и к психологическим несообразностям.
Когда переводишь эту книгу, часто хочется вставить «по–видимому», «должно быть» и тому подобное (например, про Секретаря — «Вероятно, он был из тех, кто щепетилен и совестлив даже в преступлении»). Остается предположить, что так видит Сайм; принять, что логики и психологической достоверности здесь не больше, чем во сне.
Есть и совсем странные вещи. Честертон долго описывает, как боялся Сайм Председателя, когда впервые его увидел. Именно в этом месте мы читаем прекрасные слова о том, что он был достаточно слаб, чтобы бояться силы, но не настолько слаб, чтобы ею восхищаться. Но вот, незадолго до конца книги, Сайм открывает соратникам, что сзади Воскресенье показался ему гнусным и страшным, спереди — прекрасным. И это место очень важно для Честертона, именно здесь подходит он к одному из главных своих убеждений: сущность мира, самая его глубина несомненно и безусловно хороши, хотя «сзади» он далеко не без оснований может показаться и бессмысленным и непереносимо страшным. Собственно, именно так выглядит «пресловутый оптимизм Честертона» (сам он называет «пресловутым» оптимизм Диккенса). С обычной точки зрения это и не оптимизм; но сейчас мы до поры до времени говорим о другом: Честертон снова открывает нам одну из важнейших для себя истин — а внимательному читателю приходится что–то выбирать, не из истин, конечно, а из обстоятельств. Боялся Сайм Председателя, когда увидел его лицо, или восхищался им? Роман на это ответа не даст; принять же и то, и другое можно только в том случае, если мы вообще перестанем ждать от книги логической и психологической сообразности.