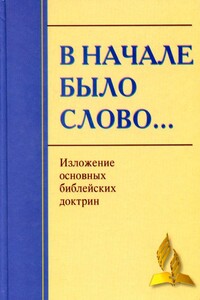Самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX в.) | страница 66
В редких случаях самосожжение происходило непосредственно в населенном пункте, в деревне, на глазах у множества изумленных зрителей. Заметим, что самосожжения в городах никогда не совершались. На это прямо и вполне обоснованно указывали в конце XVII в. авторы «Жалобницы»: «Градския же житилие отнюд сего не творят», не только не сжигаются сами, но и «сердечно воздыхают и непрестанно Бога молят, чтобы утолил Господь самосожжения мятеж и у целомудрия бы разсуждением еу ангел ския правды»[408]. Исследование документов XVIII в. показывает, что эта закономерность сохранялась и в дальнейшем. В действительности такое поведение горожан объясняется, с одной стороны, большим рационализмом городской жизни, а с другой – большими возможностями контроля власти над жизнью отдельного индивида в городской среде. Заметим, что такое поведение старообрядцев резко контрастирует с присущими суициду закономерностями, согласно которым «условия городской жизни в высшей степени содействуют повышению цифры самоубийств сравнительно перед сельским населением»[409].
В то же время довольно часто местом самосожжения становились старообрядческие поселения. Некоторые из них по этой причине существовали весьма недолго. Можно утверждать, что призрак огненной смерти постоянно витал над старообрядческими сообществами. В литературе можно найти противоположную точку зрения, связанную со старообрядческим поселением, основанным в конце XVII в. в Каргополье: «Трудно поверить, что люди, готовящиеся к самосожжению, стали осваивать новые земли»[410]. Это суждение легко опровергнуть. Во-первых, подготовка к самосожжению всегда занимала длительное время, хладнокровно осуществлялась лидерами старообрядческих сообществ, которые могли не посвящать в свои планы всех приходящих к ним сторонников «древлего благочестия». Во-вторых, наличие пашни являлось несомненной маскировкой намерений. Ведь тех, кто сеет хлеб, трудно заподозрить в желании завершить земное существование. В-третьих, среди старообрядцев могли находиться как сторонники гарей, так и те, кто намеревался сохранить свою жизнь. Последние усердно занимались хлебопашеством, возможно, даже не подозревая о своей ближайшей трагической участи.
В любом случае появление серьезной опасности неизбежно приводило к дискуссии о том, не наступил ли момент, когда, «яко в некую прохладу», пора войти в огонь. Как полагает П.С. Смирнов, выговцы готовились гореть по случаю ареста одного из основоположников старообрядческого сообщества Даниила Викулова в 1718 году