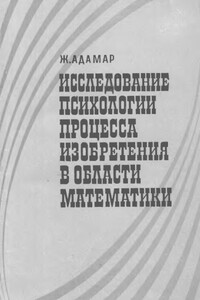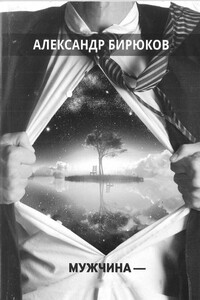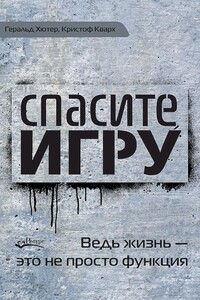Почему | страница 7
Хотя данное утверждение верно не для всех случаев, в моей книге термин «причина» в целом означает следующее: причина – это нечто, повышающее вероятность следствия, без чего следствие могло произойти, а могло и не произойти, и способное при должных обстоятельствах это следствие произвести.
Одно из самых ранних определений причины дал Аристотель: в его формулировке эта идея означала попытку ответить на вопрос «почему»[10]. Итак, если мы спрашиваем, почему случилось некое событие, кто-то должен объяснить, как это произошло (при нагревании воды выделяется пар), из чего состоит (водород и кислород, соединяясь, образуют воду), какую форму принимает (стул – это нечто для сидения, сделанное из природного материала и имеющее спинку) или для чего предназначено (задача вакцины – предотвратить болезнь).
И все же, отыскивая причины, мы чаще всего хотим знать, почему произошло одно событие, а не другое.
После Аристотеля наука о причинности прошла несколько промежуточных этапов (к примеру, об этом говорил в своих работах Фома Аквинский[11]), следующий крупный шаг был сделан во время научной революции конца эпохи Ренессанса. Этому периоду принадлежат такие ключевые фигуры, как Галилей, Ньютон, Локк, и немало прочих, однако именно труды Дэвида Юма[12] в XVIII столетии заложили фундаментальные основы современной научной мысли в области каузальности и методов отыскания причинных зависимостей[13]. Нельзя утверждать, что Юм был прав во всем (или что все согласны с его утверждениями либо хотя бы едины во мнении относительно его постулатов), однако именно он возвел вопрос о причинности в критические рамки.
Рассуждая, как нечто становится причиной, Юм поделил вопрос на две части: «Что такое причина?» и «Как мы можем отыскать причины?» Что еще важнее, вместо поисков неких особых свойств, отличающих причины от не-причин, он свел взаимосвязи к закономерностям их наступления. Иными словами, мы изучаем причинно-следственные взаимосвязи путем регулярного наблюдения паттернов их осуществления и учиться причинности можем только на основе опыта регулярности их осуществления.
Укус москита – необходимый инициатор заболевания малярией, а вот всплеск активности продавцов мороженого весной не есть непременное условие для наступления теплых деньков. И все же с помощью одних только наблюдений мы не увидим разницы между регулярностью наступления события (погода/мороженое) и необходимым его условием (москит/малярия). Лишь при наличии контрпримера (например, наступлению теплой погоды не предшествует увеличение ларьков с мороженым) мы способны убедиться, что мороженщики не есть необходимое условие температурных изменений.