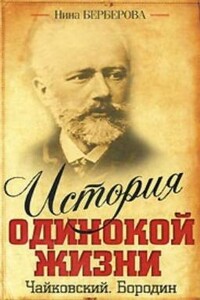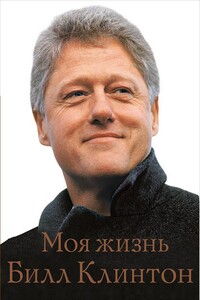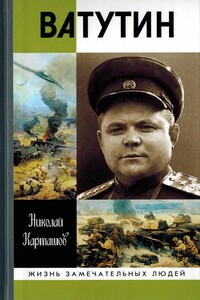Курсив мой (Часть 5-7) | страница 47
Еще зима, и еще одна. И третья, и четвертая. И, наконец, последняя, пятая. Мы теряем им счет. После "Плача" я уже ничего не пишу - три года. Но я еще в начале войны купила толстую тетрадь, в клеенчатом переплете, с красным обрезом. Я иногда записываю в нее какие-то факты и мысли, события и размышления о них; разве я всю жизнь не считала, что все мое существова-ние состоит в том, чтобы жить и думать о жизни? Жизнь и смысл жизни. Но теперь я вижу, что смысл ее - в ней самой и во мне - живой, еще живой. А другого смысла нет. И цели нет, и потому-то средства и не оправдываются целью, что цели нет. Цели нет.
Парижу не идет "быть пусту". Париж должен пульсировать, мигать огнями, греметь, дышать. В Петербурге на Васильевском острове на Среднем проспекте в 1921 году паслась коза. Но здесь коз нет, а есть только широкие жилы улиц, одинокий полицейский на перекрестке, закрытые лавки, молчание. Я проезжаю на велосипеде "мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино". И читали друг другу стихи, и говорили о стихах. Юрий Мандельштам арестован, Фельзен арестован, Раиса Блох и Михаил Горлин исчезли, погибли; Мочульский болен туберку-лезом; Адамович, Софиев (потерявший жену) на фронте; Кнут и Оцуп ушли в Сопротивление; Ладинский, Раевский прячутся; Галя Кузнецова на юге, бедствует в "свободной зоне"; Божнев в больнице для нервнобольных; о Штейгере давно никто не слыхал; Присманова и Гингер живут и надеются на чудо.
Здесь жил такой-то, там жили такие-то. А тут вот жила я сама: улица Четырех труб, в Биянкуре, теперь разбитом бомбами. Где вы, деникинские вояки, врангелевская шпана благородного происхождения, пролетариат православного вероисповедания, по контракту приехавшие стоять у мартенов господина Рено? Один посажен немцами на хлеб и на воду за колючую проволоку за то, что русского происхождения: кто их знает, что они могут выкинуть в дни, когда германская армия стоит под Ленинградом и Сталинградом! Другие надели немецкую форму и сражаются против "совдепов", третьи затихли, их не видно, может быть, торгуют на черном рынке квасом, может быть, моют полы в немецких казармах? Тут я жила, на бульваре Латур-Мобур, теперь это военный район; через два квартала от него - Притти-отель, где я вышивала когда-то крестиком. Эти улицы так же безлюдны, как и далекие улицы рабочих районов, как и улица Криме, где было так холодно, когда крестили Олю, и стояла оловянная купель, похожая на детскую ванночку. "Вот тебя сейчас выкупают в ней", - пугала я Олю, и она делала испуганные глаза. И я тихо прохожу мимо последней квартиры Ходасевича, откуда его увезли в больницу, откуда, через три года, взяли Олю. Я была тут два раза после этого, консьержка впустила меня, мы поднялись на цыпочках, говорили шепотом. Я взяла чемодан с его бумагами, его (отцовские, с ключиком) золотые часы, его портсигар и одну из литографий, когда-то купленных мною: вид угла Мойки и Невского, где изображен дом Елисеева, то есть Дом Искусств, где он жил, с окном его комнаты, в которое он смотрел, когда ждал меня. В первой комнате была просыпана пудра, цветы засохли в вазе и дурно пахли, кровати были в беспорядке: когда пришли за ней, она, вероятно, еще спала. На кухне па тарелке лежали три вареных картофелины в бело-зеленом мху. Консьержка торопила меня, стоя на страже в дверях.