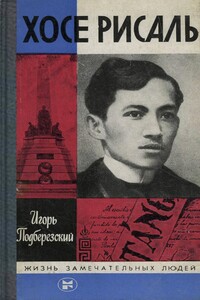Курсив мой (Часть 5-7) | страница 32
Даже зрачки глаз его отливали желто-зеленым, не говоря уже о волосах. Ноги его были худы, как щепки. В лице была тоска, мука, ужас. Он совершенно не спал. Он не знал, что это может быть рак, и вообще не предполагал, что болен так серьезно. Но какая-то потерянность была во всем, ни в чем он не видел облегчения; боли начались теперь менее сильные, но гораздо выше, "под ложечкой"; ему впрыскивали что-то для поджелудочной железы, но он продолжал темнеть.
В конце мая было решено созвать консилиум из Левена и д-ра Абрами. Абрами сказал, что это, вероятно, закупорка желчных путей и что надо лечь на 2 недели в госпиталь для всевозмо-жных опытов, которые должны помочь поставить диагноз. Его перевезли в городской госпиталь Бруссе. Там было ужасно: нельзя себе представить, что может существовать такой ад на земле.
Посетителей пускали с 1 до 2 дня. Мы стояли с узелками (передачами, как перед тюрьмой) у ворот. Ровно в час ворота распахнулись, все побежали, кто - куда, чтобы не упустить драгоценного времени. Он лежал в стеклянной клетке, завешанной от других палат - соседних - простынями. В клетку светило яркое, жаркое солнце; негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то, что ему приносили (в госпитале кормили дурно, и он там почти ничего не ел), острил над собой и потом сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал.
Ванны (которые ему облегчали чесотку при желтухе) ему не давали, так как "он был недостаточно грязен", грелку ночью не приносили. Сестры были шумливы, равнодушны и грубы. Абрами являлся в сопровождении пятнадцати студентов. Когда ему брали кровь для исследования, то обрызгали кровью всю комнату, и ему было до вечера больно.
Снотворное давали то в 11 часов утра, то в 3 часа дня, но денег не было, чтобы лечь в частную клинику, и он лежал там и терпел, расчесывая до крови свое желтое, худое тело, иногда теряя сознание от слабости и боли. Две недели исследовали его: снимали рентгеном, делали всевозможные анализы, заставляли пить то молоко, то холодную воду отчего опять усилились его боли, - и нельзя было понять, где именно у него болит, потому что он показывал то "под ложечку", то на левый бок, то на живот.
Жесткая койка; с трудом выпрошенная вторая подушка; госпитальное белье и суровое "тюремное" одеяло, а на дворе - жаркие июньские дни, которые так и ломятся в комнату. Он говорил:
Сегодня ночью я ненавидел всех. Все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я, эти ночи, как я, не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой. Только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу.