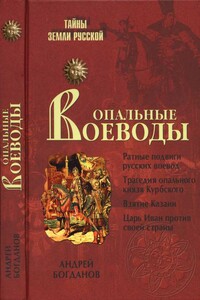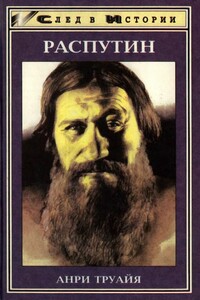Московское царство и Запад. Историографические очерки | страница 152
Концепционные изменения в области актового источниковедения наиболее ярко проявились в трудах, посвященных жалованным грамотам. Теория органической присущности иммунитета крупной земельной собственности уже в начале 50-х годов оспаривалась сторонниками противоположной точки зрения, но только в период первой революционной ситуации и крестьянской реформы концепция государственного происхождения иммунитета торжествует. Это приводит к переоценке роли жалованных грамот как документов, устанавливающих иммунитет. Перемена концепций идет в общем русле отхода от представлений естественно-исторической школы и замены их идеей о решающей роли правотворчества государства. Одновременно преувеличивается значение иностранных влияний (монгольского и византийского) в деле выдачи грамот и подчеркиваются благочестивые цели пожалования, т. е. христианские мотивы поведения князей – носителей светской власти[725].
Методика изучения актов, как и других групп источников, не претерпевает в годы реформы какого-либо коренного перелома. В это время углубляются принципы юридического анализа, продолжается практика составления «сводных текстов».
Подводя итоги нашего обзора развития различных областей русского источниковедения в середине XIX в., мы приходим к выводу, что период первой революционной ситуации и буржуазных реформ был крупной вехой в истории источниковедческой мысли. От констатации абстрактно взятых внеполитических, как бы «общечеловеческих» мотивов создания источников людьми (потребность помнить, эстетические потребности, обычное право и т. п.) представители русской исторической науки начинают переходить к поискам социально-политических корней возникновения письменных документов (заинтересованность князей в летописях, «нравственно-назидательные», т. е. воспитательные цели агиографии, классовые цели составителей Русской Правды, «милость» князей при выдаче жалованных грамот и др.).
Этот сдвиг связан с изменением всей системы общественных отношений в стране, с падением роли земельного дворянства и увеличением роли государственной власти и внутренней политики. Дворянство являлось хранителем «обычного права» и всех «общечеловеческих» качеств в их наиболее концентрированном выражении, ибо только класс, свободный от государственной службы, обеспеченный землей и рентой, огражденный сословными привилегиями, мог наиболее «свободно» (насколько это было возможно в рамках централизованного государства) проявлять как наилучшие, так и наихудшие «общечеловеческие» качества.