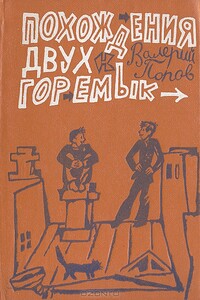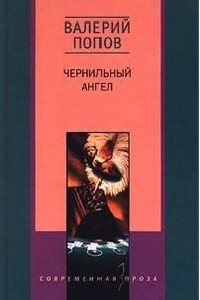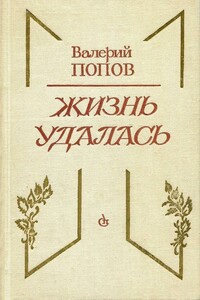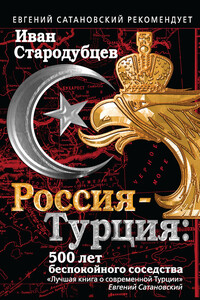От Пушкина к Бродскому. Путеводитель по литературному Петербургу | страница 55
– Вале,га п, гивет! Мне очень понравились твои гассказики в «Молодом Ленинг, гаде».
«Рассказики»! Величие свое он строил уже тогда! Мне тоже хотелось сказать, что мне тоже понравился его «стишок» – странный, непонятно почему отобранный равнодушными составителями (и кстати, единственный, напечатанный здесь). Господи – как, что и почему тогда печатали? Тяжелые, нервные годы. Но заквасились мы там и тогда, в нашем «Преображенском полку» – а дальше уже только реализовались, кто где и как смог.
Инициатива разговора с русистами переходит, естественно, к нему. Да – он по-новому научился говорить – настоящий международный профессор. Интересная находка – заканчивать каждое свое утверждение вопросительной интонацией, как бы требующей немедленного общего подтверждения. «Так развивалась русская история, да?» «И этот стих был очень плохой, да?»… Что-то наполовину английское слышится в этой интонации. И действие ее неотразимо.
Потом я наблюдал, как десятки наших продвинутых филологов копировали эту интонацию, становясь тем самым в ряд «непререкаемых».
После беседы мы идем на выступление, проходим через замечательный кампус – белые домики студентов, привольные лужайки с раскидистыми дубами, запах скошенной травы.
В большом зале сначала что-то говорим мы с Голышевым, я читаю свой рассказ «Случай на молочном заводе», о шпионе, залезшем в творог, который пришлось съесть. Американцы «врубаются», смеются, аплодируют. Потом на трибуну выходит Бродский. Прокашлявшись, он, чуть картавя, начинает читать – и мое сердце обрывается, падает. Что так действует – голос? или – слова?
Была тишина. Потом – овация. Он стал читать этот стих уже по-английски.