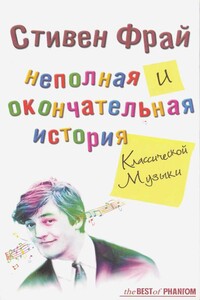Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты | страница 7
Справился с воспоминаниями и вдруг побежал, заторопился к уже виднеющейся станции, к ее строениям на краю дрянного, известного только по лагерям северного городишки, к станции, каких, будто без счета, похожих, раскидано по этой просторной и вечно нищей земле под распахом уж вовсе необъятных небес, осененных, не осененных ли Божьим промыслом, а скорее всего, не осененных, забытых.
Когда добрался до станции прежде всего в глаза ударило:
«Ба-бы! Женщины! Девки! Девчонки! Живые! Настоящие!» И на старух словно бы даже гляделось. Жен-щи-ны! Ба-бы?! — их было удивительно, невыносимо много. Будто ими одними была заселена земля и покрыт этот перрон с беленой полосой по краю платформы и лосные, грязные лавки вдоль здания станции. Хлопающие двери впускали и выталкивали тоже девок, женщин, старух, а больше всего девок с нежными лицами, светловолосых и черненьких, крашеных и простеньких, обыкновенных. Как я по ним стосковался, по одному только их виду! Мужики тут тоже были, но не воспринимались, взгляд мой на них не останавливался, глаза бы на них не глядели! Мужики опаршивели за эти нескончаемые годы, потому что всюду и везде ТАМ были они, их лица, рожи, одежда, табак, вонь, въевшаяся во все и навечно, как вечный мат, лагерный говор, давно привычный уху, и зэковская эта, хуже звериной, злоба.
А баб не видели, годами. О них старались не травить душу. Слово это «баба» как-то отстранялось. Того, кто много о них трепал, быстро остужали. Там никто не называл их женщинами. А если и говорилось, всегда как бы пре-зираючи и в воспоминаниях-рассказах было одно: как там какую-то «Маньку» зажал, засадил ей, «втер». Иных воспоминаний будто не полагалось.
ЖЕНЩИНЫ… Глаз отдыхал, распускался на них, ловил их мягкие, не такие совсем, как у мужиков, движения, вбирал их ноги, платки, волосы, юбки, невыносимо обтягивающие их сладко круглые, выпирающие задницы, где с особой тоской примечались врезавшиеся в тело валики и резинки их штанов. Глядя на них и представляя все их запретное, почувствовал неукротимое поднимающее движение, сопряженное с томливой, ноющей безысходностью, сосущей сердце, вымогающей душу. Чтоб сбить это, я заторопился на станцию, — надо было еще купить билет, убедиться-узнать, когда поезд, хотя расписание знал из лагеря наизусть, а главное, отдохнуть от этой невыносимости, когда жало мошонку, давило внизу живота, будто по нужде, а вовсе не потому…
В вонючем, махорочном помещении станции, с грязноглянцевыми изрезанными лавками было полутемно, и враз захотелось на волю, но я нашел глазами расписание и часы (до поезда получалось недолго), занял очередь в кассу. Встал за широкозадой невысокой бабой, в красном с горошками платье, жакетке-плюшевке и в желтеньком платочке на белесого цвета выбивающихся из-под платка волосах. Волосы были сдвинуты в косую челку а сзади торчали прямыми подрезанными концами. Баба! Женщина! Впервые за столько лет я стоял рядом с женщиной, и опять прихватило, затомило низ живота — обалдел от запаха этой молодки, пахло женской пряностью, подмышечным потом, цветочным каким-то одеколоном и чем-то еще неотразимым, домашним, чем не пахнет и не может пахнуть от людей из зоны. Такого не нюхал, не ощущал не помню с каких пор, да ведь и до лагеря женщины у меня не было. Баба же, косясь, поджимала и так неширокие губы, и в них, особенно в нижней, более красивой, но поджимающей верхнюю, обозначалось презрение: «Молодой, а насиделся, видать, вдосталь, жулик, поди, карманник». Женщины делят, кажется, всех воров на два сорта — карманник, от которого деньги надо прятать подальше, под подол, за резинку чулка или в бюстгальтер, и насильник, которых оценивают соответственно, а боятся, кажется, меньше. Меня она в насильники явно не зачисляла.