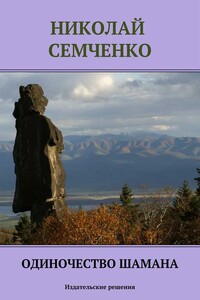Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты | страница 37
Словом, я писал свой зачетный натюрморт как одержимый, нашедший наконец никем не реализованную идею.
Был пленен, потрясен, обрадован. Я решил для себя, кажется, главную задачу художника: писать истину в любом ее приближении и одновременно с тем, как я решал все в рисунке, раскладывал-намечал тени, уравновешивал и продумывал тона подмалевка, во мне, как в каком-то кипящем сосуде, поднималась злость на училище, на моих горе-наставников, на то, сколько без нужды и толка изведено красок, истерто кистей, испорчено картонов, покрыто этими тошнотворными сиренями, которые, как ни писали их прилежно, не становились ни пахучими, ни прекрасными в своих зануделых вазах, как не станут открытием и радостным откровением колосья с васильками, прилавки и подносы с виноградными гроздьями. Наверное, этого не убереглись и величайшие, раз не ушли от традиций. Пора поклонения пище, когда господствовали над миром ее певцы Йордане и Снайдере, когда окорока, битые гуси, индюки, рыбы, вино в бокалах и все другие земные плоды ломились из рам, пленяя гурманов и просто плотских обжор, прошла через столетия и в наших социалистических условиях, выродилась в тусклое изобилие колхозных рынков, совхозных свадеб. Натюрморт облинял, потерял свою радость. Его писали уже не Снайдерсы, а прилежные мастеровые, наподобие наших гениев Семенова и Замош-кина, им украшали теперь не стены гостиных, а панели харчевен и бань. Социалистическому натюрморту будто и не полагалось разжигать аппетиты, ласкать и лелеять вкусовые нервы. Он просто должен был славить подразумеваемое изобилие.
Мой натюрморт во всех отношениях был безнравственным и безыдейным. К какому наслаждению он звал? Какие должен был рождать мысли и образы? Грешные? Грешнейшие? Или даже непристойные?
Зато как писался! Рисунок я подготовил с железной убежденностью: только так может быть построена композиция! Все вещи-предметы организованы в высшем порядке. Закрепил отрисованное настоящим фиксативом. Теперь за кисти! И вот я впервые любовался своим рисунком! Мой рисунок нравился МНЕ! Он поразил меня своей свободной откровенностью. Обычно мне нравились рисунки других. И мысли, унижающие мысли о собственной бездарности, жгли-грызли душу. А тут я поспорил бы и с лучшим рисовальщиком мира. С самим Энгром! А когда закончил раскладку тонов, теней и полутеней, нашел колорит и фон и все опять закрепил жидким впротирку подмалевком — не стал вспугивать торжества. Меня бил озноб будущей удачи.