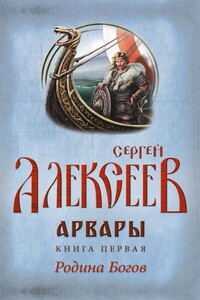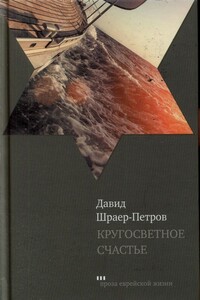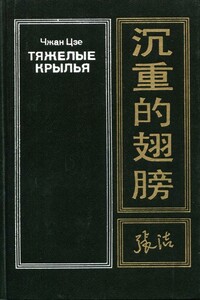Материк. Не поле перейти | страница 41
Когда в Торбе случалась гулянка и подвыпившие ватаги ходили по поселку с музыкой и песнями, то возле Параниной избы обязательно запевали:
Не было у нее ни Ивана, и вообще никого. Откуда она появилась со своим музыкальным сундуком, толком никто не знал. Лет ей было под тридцать. То ли с ее слов, то ли по догадкам, рассказывали, будто в юности Параня была красавицей и ее чуть-чуть не украл какой-то заезжий фотограф. Будто обманом посадил в кошевку и повез. Мужики в деревне хватились, догнали верхами, отобрали Параню, а фотографа избили так, что тот чах, чах и скоро умер. Говорили, будто в войну Параня осталась сиротой и досталось ей хлебнуть горя. Кроме лебеды и крапивы да иногда пареной брюквы, ничего не видела. От этого привязалась к ней какая-то болезнь и за год чуть живьем не съела. Параня и так была не высока ростом, а тут еще ссутулилась, ноги стали кривые и руки-крюки: все пальцы врастопырку и едва шевелятся. После войны кое-как пришла в себя и начала толстеть. Одним словом, в Торбе она появилась этаким обрубышем на кривых ножках и, за что бы ни взялась, из-за своих неуклюжих рук ничего у нее не выходило. Однако намораживать дорогу через Четь особой сноровки не требовалось, и Параня каждый год появлялась у нас на Алейке от ледостава до ледохода. Утром мужики заведут ей мотопомпу, а она только следит, чтобы водозаборник не замерз, да пожарную кишку с места на место раза три в день перетащит.
На льду Чети ни вагончика, ни какого-нибудь закутка не было, поэтому Параня раз пять на день приходила к нам греться. Перевалится через порог, сядет у двери и шагу больше не ступит. Пимы у нее обледенелые, полушубок как жесть гремит, и руки в рукавицах так иззябнут, что пальцы и вовсе не сгибаются. Минут через десять она оттаивала, начинала шевелиться, затем заскорузлым движением стягивала шаль на затылок и осматривалась с таким видом, словно хотела сказать — господи, куда же я попала? Глаза ее тоже будто, оттаивали, становились печальными. Параня часто-часто мигала, и мне всегда казалось, что она сейчас расплачется.
Мать, если была дома, принимала ее ласково, все уговаривала раздеться, сесть поближе к печи, а то принималась кормить. Однако Параня каждый раз отказывалась, и не то чтобы стеснялась или была сыта. Я замечал, как она с аппетитом смотрит на тарелку супа, которую мать наливала для нее и ставила на пол, видел, как она тянет руки к печи, и все-таки Параня доставала из своей кирзовой сумки полузамерзший хлеб, сало или чесночную колбасу, бутылку с молоком или чаем, пристраивала все это на коленях и начинала есть.