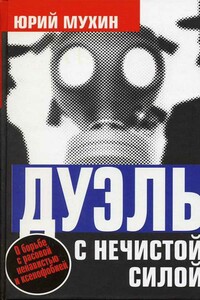Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина | страница 37
Те, кто требовал вернуть Павленского из сферы безответственности анонимных врачей в сферу ответственности хотя бы имеющих имена следователей и судей, апеллировали к советскому опыту подавления диссидентского движения. Действительно, тогда в случаях нежелания власти преследовать инакомыслящих с помощью юридической репрессивной машины в ход шла «карательная медицина». Преступления ее известны, так что аналогию выстроить достаточно просто. Список пострадавших от пыточной советской психиатрии длинный, в нем Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Валерия Новодворская, Леонид Плющ и многие другие. Однако, как мне кажется, эта аналогия затемняет суть дела. Павленского с трудом можно назвать наследником советского диссидентства; он прежде всего современный художник, который использует «политическое» не просто как тему своего искусства; он скорее делает искусство, на сто процентов состоящее из «политического». Более того, «политическое» берется им как «этическое», причем последнее трактуется как борьба против абсолютного Зла. Павленский – мистик в самом прямом смысле этого слова; его акционистские жесты призваны указать на следующее: современное Российское государство есть воплощение чистого беспримесного Зла, в борьбе с которым художник готов идти до конца. Современная Россия – как, собственно, и историческая Россия – воспринимается им как область окончательной несвободы, о существовании которой население знает, но не желает отдавать себе в этом отчет. Таким образом, Павленский открывает глаза на уже известное – собственно, речь идет о том, чтобы у общества «отверзлись очи». Конкретные же несправедливости, пороки и преступления власти, сколь бы тяжкими и опасными они ни были, вроде агрессии против Украины и т. д., Павленского не очень интересуют. Это частности, симптомы; повышенное внимание к ним затемняет понимание главной драмы, которая разыгрывается на территории бывшего СССР, – драмы наступления Абсолютного, Инфернального Зла. Знаменитое фото Павленского на фоне адского пламени подожженной им двери ФСБ – об этом.
В 2016-м, осенью, исполнилось 180 лет публикации, кажется, самого известного раннего опыта русской исторической рефлексии – первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Анонимный перевод французского оригинала этого сочинения, изобилующий неточностями и сокращениями, был напечатан в 15-м номере московского журнала «Телескоп». Вспыхнул сильнейший скандал, который увенчался известной резолюцией главного читателя, цензора и блюстителя смыслов в тогдашней России, Николая Первого: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». За дерзкую бессмыслицу поплатились все причастные к публикации: журнал закрыли, цензора, пропустившего «Философическое письмо» в печать, уволили, издателя «Телескопа» Николая Надеждина сослали в Усть-Сысольск (ненадолго), а самого автора объявили сумасшедшим. По распоряжению властей Чаадаев находился под нестрогим домашним арестом, ежедневно к нему являлся доктор для освидетельствования. Через какое-то время от услуг медика отказались, но история, конечно же, не забылась. Чаадаев даже написал «Апологию сумасшедшего», которую, впрочем, при жизни отдать в печать не рискнул; этот странный, неспокойный, взвинченный текст был опубликован лишь в начале XX века. В сущности, сочинив «Апологию», Чаадаев нарушил запрет: в 1837 году, «снимая» высочайший психиатрический диагноз, ему поставили условие «ничего не писать». Впрочем, Чаадаев писал немного, предпочитая говорить. Он был блестящим рассказчиком, собеседником и особенно проповедником. В московском обществе его считали первым, а слава безумца нисколько не мешала уважению – и даже поклонению – окружающих, прежде всего дам.