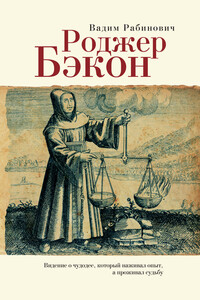«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 74
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус…
Взор не только предшествует вкусу, главенствует над ним, еда не съедена, а увидена и собственно такое восприятие позволяет, не попирая ломоносовского канона, «впустить ее в высокую поэзию». (Еще одним внутритекстуальным подтверждением может быть рифма в приведенном нами выше фрагменте – «раки красны-прекрасны», содержащая образы зрительного, а не вкусового ряда.) Причем – так объясняется исключительная насыщенность и живость красок – увидена в том самом преображающем свете, что и весь мир, и это становится тем более очевидно при сопоставлении с приведенным выше фрагментом из поэмы «Обед», где описываются схожие гастрономические реалии. Очищенное от утилитарности изображение трапезы (почти декларированное в сохранившемся в рукописи варианте третьей с конца строки «Приглашения к обеду» – «Не в сладком угожденьи брюха») превращало пиршественный стол в цветник, что, безусловно, отвечало цели стихотворства, как ее понимал Державин – «брать краску солнечных лучей» и «лить свет во тьму». Но применительно к образам трапезы существенно еще одно измерение. «Гастрономические реалии» не просто увидены, они увидены благодарно; свободными от утилитарности, т. е. как цель, а не как средство, предметы могут быть увидены только благодарным взором. Именно такому взору они открываются «как проявления извечных блистающих форм», когда, как пишет Борис Грифцов, «золото первее сот; сребро достовернее лещей»[209].
Наконец, трапеза не только увидена, но и принесена. В зрелых стихотворениях Державина описания еды появляются только в контексте приглашения, дружества, совместной трапезы. Конечно, вслед за И. З. Серманом[210], здесь можно углядеть горацианские мотивы, к чему склоняет и признание самого поэта «средь муз с Горацием пою» («Умеренность»). На уровне мотива и художественной разработки влияние Горация отрицать невозможно. Но если учесть, что трапеза у Державина, как и весь Божий мир, увидена благодарным взором, можно с большой долей уверенности говорить о том, что из горацианской дружеской пирушки она перерастает в «агапэ», смысл которой прежде всего в совместной радости о дарах Божьих и благодарении за них («собираемся, чтобы благодарить», как определял цель братских трапез Ипполит Римский, подобное описание встречается также у Тертуллиана). Таким образом, трапеза обретает агапический характер – не столько услаждает «невинное чувственное вожделение», сколько соединяет хозяина и гостя, равно как и автора и читателя, в благодарном созерцании даров, и тем самым, готовит к наивысшему единству «со всеми и вся». Это «измерение», несомненно, намечено не только появляющейся в заключительной части программного, как считает И. З. Серман, для позднего Державина стихотворения «Евгению. Жизнь Званская» темой «воспоминания и воскресения» («Единой правдою меня в умах людей // Чрез Клии воскресишь согласья»), но и всей поэтикой освещения как «освящения мира и жизни», того действия, которое, по словам о. Александра Шмемана