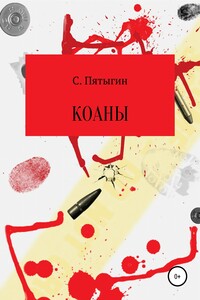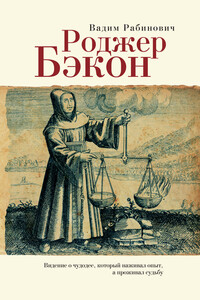«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 64
По сравнению с догматическим утверждением Домостроя: «Иконе же Христове, и Пречистеи Его Матери ‹…› и всем святым честь с верою воздаваи яко самем, ‹…› мощи ж святых с верою целуи, и покланяися им»[177], синодичный фрагмент церковной истории выглядит как историческое и богословское доказательство необходимости иконопочитания. Вероятно, человек XVII столетия, переживший церковную реформу и привыкший к бурной словесной и литературной полемике вокруг основных духовных ценностей православия, уже нуждался в обосновании своей религиозной правоты, и одной голословной декламации символа веры для него было недостаточно. И такое обоснование в духе «ревнительства древлего благочестия» он получал в тексте и миниатюрах синодиков.
В других синодиках евхаристия, представленная как символическое действо священника и дьякона в храме, сопро вождает учительные тексты о пользе причастия, поминания в церкви и записи в синодик для спасения души. На этих миниатюрах изображались священники, готовящие евхаристическую трапезу для прихожан (разрезающие просфоры: синодик переславского Троицкого Данилова монастыря 1672 г.; синодик переславского Горицкого монастыря 1695 г.)
Рис. 1. Евхаристия. Миниатюра синодика переславского Горицкого монастыря 1695 г.
Для составителей синодичных предисловий и художников, украшавших их миниатюрами, только «небесная» евхаристическая трапеза имела исключительно положительный смысл. Вкушая после исповеди и прощения грехов священником символическое тело Христово и пригубливая Его кровь, верующий христианин испытывал чувство сопричастности церкви. Все прочие образы трапезы связаны исключительно с представлениями о греховности мирских соблазнов и удовольствий.
Изображение греховной «земной» трапезы включено в символическую композицию «Колесо жизни». Путь человека в пасть адского чудовища начинается с «пиршеств» и «браков» (синодик ростовского Успенского собора второй половины XVII в.). Для наглядности неотвратимость такого конца, особенно в старообрядческих синодиках XVIII века, подчеркивалась «игровым» элементом миниатюры – в центре ее закреплялся подвижный кружок или кольцо с нарисованной фигуркой человека. При вращении этой детали по часовой стрелке нарисованный человечек быстро оказывался в пасти зверя.
Рис. 2. Колесо жизни. Миниатюра синодика ростовского Успенского собора второй половины XVII в.
Пагубное влияние страсти к веселым и обильным пиршествам для будущего человеческой души подчеркивается и в миниатюрах, иллюстрирующих традиционный для синодичных предисловий фрагмент из евангельской притчи «О богаче и бедном Лазаре»: