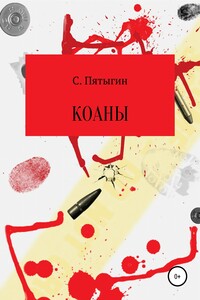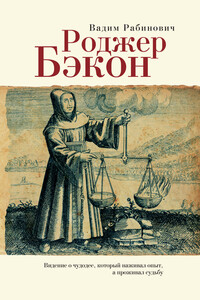«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 56
Но особенную остроту вопрос о трапезе в восточнославянской традиции приобретает в XVII веке в связи с полемикой о времени преложения Святых Даров. Еще в начале семнадцатого столетия появляются сочинения, в которых ощущаются следы католического влияния на вопрос о времени преложения Святых Даров («Служебник» Гедеона Балабана (1604), «Служебник» 1610 г. виленского издания, переиздания 1639 и 1646 гг. «Служебника» Петра Могилы)[163]. Во второй половине столетия появляется «Выклад о Церкви святой» Феодосия Сафановича (1667), а годом раньше «Жезл правления» (1666) Симеона Полоцкого, а через пятнадцать лет появился «Хлеб Животный Сильвестра Медведева. Во всех этих трудах отчетливо прослеживаются следы западноевропейского католического влияния на концепцию пресуществления даров. Однако полемика возникла только после прибытия в 1685 г. в Москву «ревнителей Православия» братьев Иоанникия и Софрония Лихудов[164]. Как пишет Т. В. Панич: «Вопрос о времени преложения Святых Даров в распрях писателей имел весьма существенное значение, он был своего рода катализатором: от характера его решения участниками конфликта зависели их воззрения на многие аспекты историко-культурного процесса, в том числе литера туру»[165]. И конечно же именно мотив трапезы становится основным образным средством в этой полемике. И здесь мы сталкиваемся с теми же образами, с которыми сталкивались в легенде о псковском юродивом и царе Иване Грозном: истинная трапеза и трапеза душегубная. Наиболее ярко этот образ проявился в предсмертном видении патриарха Иоакима[166]. Патриарх видит «поставлену трапезу яко предоуготовися патриарху оузрех же и ину трапезу и царя седяща, и се предстоящии начаше предлагати пред меня ядения предизрядная на трапезу стола моего отъяху же ястия оная рыбы великия и части рыбны велми тучныя и протчая сладчаишая и рыбная брашна вся же сия не бяху мне оугодна и зело аки бы жадность и ревность мя, о заповедехъ Церкве святыя. поядаше глаголющу ми к предстоящимъ что творит таковая, государь яко в великии постъ, хощет питати мя рыбою, доколе сие будет развращение заповедимъ церковнымъ»[167].
И, позднее, в полемике сторонников старого обряда с теми, кто принял реформы патриарха Никона, вопрос о трапезе был одним из наиболее значимых. Из этого краткого экскурса в историю образа трапезы в отечественной традиции видно, сколь важное место в духовной жизни России отводилось этой теме и как тесно представление о трапезе духовной было в ней связано с представлением о трапезе телесной.