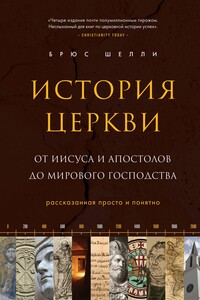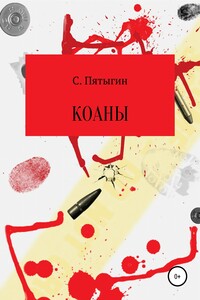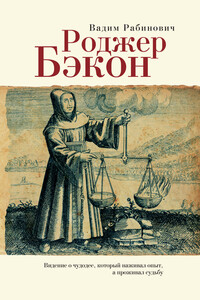«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 43
Итак, нами было показано, что образ священной трапезы, представленный в Торе неотъемлемой частью обряда благодарственного жертвоприношения, получает дальнейшее развитие в христианской и иудейской традициях. С падением Иерусалима и разрушением Храма исчезла возможность принесения жертвоприношений, заповеданных Торой. Получая символическое прочтение, сакральная трапеза начинает выполнять функции, согласно Лотману, «смыслового конденсатора», выступающего «посредником между синхронией текста и памятью культуры»[102]. Праздничная трапеза или пир, ожидающий праведников, находится в центре внимания рассуждений мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. Эти дискуссии в ранней раввинистической традиции связаны с вопросом об исполнении заповедей Торы в новую эпоху, а также с чаяниями прихода Мессии и наступлением мира грядущего. Тема была подхвачена и получила развитие в последующую эпоху, однако это уже выходит за рамки настоящей статьи.
Евхаристистическая трапеза обращается к нашей памяти и в тоже время приглашает нас к богообщению, объединяющему воедино прошедшее, настоящее и грядущее. В евхаристии происходит как наше воссоединение с Отцом через жертву Сына в Духе Святом, так и наше соединение как церковь. Важно помнить, что исполнение библейских заповедей служило восстановлению нарушенных взаимоотношений с Богом и с ближними. Так и в наше время память о благодарственной жертве, частью которой являлась праздничная трапеза, ее новозаветное толкование в евхаристии и дальнейшее развитие в богословской мысли помогает нам в осознании самих себя. Готовы ли мы ко встрече с Ним, с другими, званными на брачную вечерю Агнца? Помним ли мы, что Всевышним все приготовлено к пиру?
Ксения Сергазина
Семга для Божьих людей: один день из жизни московской общины христоверов
Основу статьи составляет история московской общины христоверов, или хлыстов, первой трети XVIII века. Как и многие другие религиозные течения конца XVII – начала XVIII века, христовщина предлагала свой путь спасения, который получил название «Веры Христовой».
В материалах допросов христоверов 1733 года сохранился рассказ двух братьев – Алексея Платонова старшего и Алексея Платонова младшего о том, как произошло их знакомство с учением христовщины. Оба они ходили «по обещанию» молиться в Киево-Печерский монастырь, а вернувшись в Москву, «стали искать таких людей, которые бы их научили, как им души спасти»[103]. О христовщине рассказал им нищий старик Михаил, который приходил к ним просить милостыню и которого они, спустя какое-то время, уже вернувшись из Киева, встретили в харчевне: