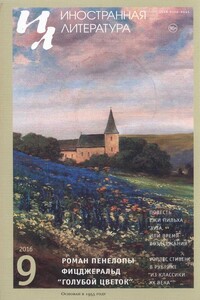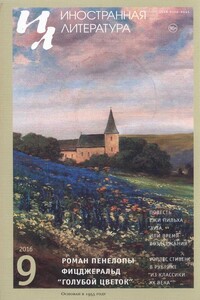Голубой цветок | страница 15
Фрайхерр ее расправил, разгладил, вытащил очки и на глазах притихшего семейства склонил вниманье к тесной печати первой полосы. Сперва сказал только:
— Не пойму, что читаю.
— Конвент вынес обвинительный приговор королю, — отважился Фриц.
— Как же, слова-то я разобрал, но смысла их никак не постигаю. Они что же это? Гражданский иск вчинили против законного короля Франции?
— Да, его обвиняют в измене.
— Совсем ума решились.
С минуту фрайхерр сидел в торжественном молчании посреди кофейных чашек. Потом сказал:
— Я более не прикоснусь к газете, покуда народ французский не очнется от безумия.
И — вышел вон из столовой.
— Satt! Satt! Satt! — крикнул Эразм, барабаня по блюдцу чашкой. — Революция есть событие чрезвычайное, истолкованию не подлежит, и верно одно: республика есть путь вперед для всего человечества.
— Мир можно обновить, — сказал Фриц, — или скорей вернуть в то состояние, в каком он прежде был, ведь золотой век, конечно, существовал когда-то.
— А Бернард-то тут как тут, под столом сидит! — крикнула фрайфрау, ударяясь в слезы. — Он каждое словечко слышит, а что услышит, всё до единого словечка станет повторять.
— И слушать нечего, я и так все знаю, — объявил наш Бернард, высвобождаясь из-под жестких складок скатерти. — Ему отрубят голову, как пить дать.
— Он сам не знает, что он говорит! Король — отец, народ его семья!
— Вот золотой век вернется, и отцов никаких не будет, — объявил наш Бернард.
— Что он такое говорит! — взывала бедная Августа.
В одном она однако не ошиблась: Французская революция и впрямь ей подбавила хлопот. Супруг не то чтоб наотрез запретил газеты в доме, а стало быть, можно было это так истолковать: «Он не желает их видеть на столе в столовой, ни в кабинете у себя». И, значит, следовало изобресть для него какой-то новый способ удовлетворять свою эту неуемную любознательность на предмет французских безобразий, которые — сказать по правде — ее-то ничуть не занимали. Оно конечно, в соляных конторах, в клубе — Литературном и Научном Атенее Вайсенфельса — он и услышит разговоры на злобу дня, но чутьем долгой привычки, куда более надежным, чем на любовь, она понимала: что ни случись, он не поверит, не обоймет умом, покуда не увидит подтвержденья на сером листе газеты.
— Знаешь, мой друг, в другой раз, как будешь слугам отдавать сюртук свой чистить, пусть уголок газеты у тебя выглядывает из кармана, самый уголок.
— Матушка, после стольких лет вы не знаете отца. Он сказал, что не станет читать газеты, и он не станет.