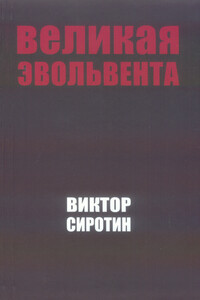Цепи свободы. Опыт философского осмысления истории | страница 78
Артур Кёстлер. «Слепящая тьма»
Если Монтескье прозрел суть и подоплёку истории, то английский писатель Кёстлер хорошо ориентировался в своих «коленах». Настолько хорошо, что досчитал их аж до чёртовой дюжины, после чего написал весьма полезную книгу «Тринадцатое колено».
Хотя, если бы Кёстлер хотел передать суть дела, то вместо «изучения» и «выявления» просто привёл бы слова Екклесиаста: «Кто находится между живыми, то ему есть ещё надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву… .Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. IХ:4,10). Вошедшая в плоть и кровь и закреплённая в генах, очевидно, в период древнего и как будто бессмысленного блуждания по пустыне, – именно эта не блещущая нравственностью мудрость была задействована «изучившими исторический процесс». Став в исторической жизни мерилом и цензом выживания – не смотря ни на что и любым способом! – мудрость эта чётко расставила моральные приоритеты, но прежде всего – их отсутствие. Впрочем, и в России после «красного террора», гражданских войн и исхода из отечества многих миллионов, народ начал кое-что понимать. Именно в это время по стране ходил столь же примечательный, сколь опасный для рассказчиков анекдот. Приглядываясь к событиям и особенно внимательно к собеседникам, кто-нибудь из россиян, «шутя», задавал вопрос: «Если за столом сидят шесть советских комиссаров, то, что под столом?». И, вызволяя из смущения своего не знающего что и думать собрата, сам же отвечал: «Двенадцать колен израилевых!». [48]
Но вопрет исторической жизни народы России, противясь, всё же приобретали неопределённо-советские черты. Нечто похожее на «советизацию» происходило и в западных странах. Причём, не только в политических баталиях или на «передовой» идеологических столкновений, но на культурном и прочих «фронтах».
Последствия I Мировой войны были налицо. У всех было ощущение тупика социальных и политических устоев западных либеральных демократий. Не было доверия и к существующим партиям. Молодежь уходила от них либо влево, либо вправо: к социализму и коммунизму или к авторитарности и фашизму, который привлекал не только смелостью «мыслей вслух», но и конкретными предложениями решения проблем, угнетавших измученного кризисом обывателя. Проникая в самые потаённые уголки жизни, Великая Депрессия убеждала в слабости «всего», – и более всего в гнилости либеральных умозрений.