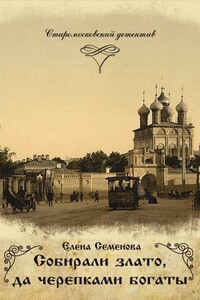Вершины и пропасти | страница 74
После этого-то разговора отправился Кромин в Новониколаевск. И такая безнадёжность навалилась, что хоть головой в полынью! И самого себя проклинал в тысячный раз за страстишку к политиканству. Прежде всегда гордился он своей осведомлённостью в политике, тем, что всегда был отчасти вовлечён в неё в отличие от других офицеров. Политика всегда захватывала Бориса Васильевича, как игра. На всём Черноморском флоте мало можно было бы сыскать офицеров, столь хорошо разбиравшихся в партиях, движениях, течения, программах. У каждого человека есть своё увлечение. Увлечением Кромина была политика. И себя он считал втайне хорошим политиком, обладающим незаурядными способности. И революция могла бы открыть для них простор (в первые дни эта мысль и тешила Кромина), но совсем не так всё вышло, как хотелось бы. А теперь вдруг подумал Борис Васильевич, что политик из него, пожалуй, ещё более незадачливый, чем министры-«временщики». Вровень с ними. Не в своё дело впутался каперанг – а теперь выплывай, как можешь! А выплывать – как? Да если бы одному… Корабль шёл ко дну, а адмирал продолжал стоять на капитанском мостике, и ясно было, что не покинет его до конца. Когда-то сокрушался Александр Васильевич, что его не было на борту любимого флагмана «Императрицы Марии», когда тот затонул. Сейчас «Императрицей Марией» была вся Россия. Подорванная подосланными врагом диверсантами, она горела и погружалась в пучину. И спасти её не было возможности. Только теперь Александр Васильевич был на борту. И Кромин не мог оставить своего адмирала и своего боевого поста. Значит, и ему суждено погибнуть. Что ж, и пенять не на кого. Если по глупости избрал неверный курс, то и не удивляйся, что угодил на мины, которые сам и расставил…
В таком настроении приехал Борис Васильевич в Новониколаевск. По пути к дому Юшиных постарался ободриться и напустить на себя обычный невозмутимый и благополучный вид. Но здесь не собирались дать ему отдыха. Здесь искали ответчика, и как раз на зубок Кромин попался. И так хотелось им крикнуть давешнее адмиральское, умоляющее: «Оставьте меня в покое! Оставьте!» Но держал в руках себя, сидел, как на иголках, выслушивал. А Тягаев лютовал, словно все-все просчёты решив разом припомнить, весь накопившийся гнев выплеснуть:
– …К лету в нашей армии сколько душ числилось? Восемьсот тысяч! А сколько в строю? Семьдесят! Где было всё остальное? Расползлось по штабам, тылам, обозам! Столько стало генералов, что уже полковнику впору в рядовые идти! Через четыре чина шагали! А раз генерал, то штаб подай! А как паразиты, как полипы наросли! А группе пятнадцать тысяч человек, меньше дивизии, а это обзывается отдельной армией, и её командующий из генералов-недорослей получает содержание главнокомандующего! Вы что, не знали об этом? Не понимали? Штабы и тыл пожрали армию! На семьдесят тысяч бойцов более полусотни штабов! А эту ораву ещё прокормить надо было! У нас солдаты в дырявых портах и кафтанах, в лаптях и босиком, а при штабах таскали обозы до тысячи повозок вместо пятидесяти четырёх! Не войска, а табор, орда какая-то! Вся работа вашей Ставки была одной сплошной авантюрой, Боря! Когда четыреста человек воюют, а семь тысяч отсиживаются в тыловых учреждениях и жируют за их спинами, это верный путь к поражению!