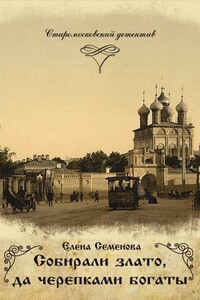Вершины и пропасти | страница 128
– Я и на жизнь смотрю режиссёрски. А что, собственно, вы желали бы услышать?
– Не знаю… Церковь считает, что самоубийство это грех.
– Но я не церковь. Я вообще избегаю употреблять слово «грех». То, что совершенно естественно для одного, может оказаться греховным для другого.
– Это софистика…
– Отчасти. Но понятием «грех» я могу апеллировать только в отношении себя. Я знаю, что я не должен делать ни при каких обстоятельствах. Но я не требую того же от других.
– Мне, знаете ли, всегда было отчаянно жаль Шумана, – сказал Миловидов, возвращаясь к своей мысли. – Он чувствовал, что рассудок предаёт его. Он хотел покончить с этим прежде, чем ум его окончательно помрачится, чтобы не мучиться самому и не доставлять хлопот другим. А ему помешали… Выловили из воды, спасли. И он был обречён ещё годы провести в доме скорби. Зачем его спасли? Разве он не имел право так распорядиться?
Сапфиров тяжело повернулся в своём кресле, внимательно посмотрел на Юрия Сергеевича, сказал серьёзно:
– Вы мысль эту оставьте, пожалуйста. Я не церковь и не судья, но, если уж говорить не режиссёрски, а по-человечески, то самоубийство мне не кажется достойным исходом. Как вы считаете, профессор, у меня есть причины для него? Я отлично знаю, что жить мне осталось, в лучшем случае, полгода. И все эти полгода я буду обречён на мучительные боли, которые, в конце концов, станут невыносимыми, которые уже не одолеет даже морфий. Есть от чего прийти в отчаяние, как вы считаете? Но я же не прихожу! Наша жизнь, а сегодня особенно, предоставляет нам великое множество возможностей проститься с ней, не прилагая к этому собственной руки. Подобный ход был бы слабостью, бегством…
– Вы правы, конечно… – вздохнул Миловидов. – Я слишком растрепался. И это сегодняшнее известие… Я пойду. Простите, что отнял у вас время.
– О чём речь! – Герман Ильдарович с заметным трудом поднялся, крепко пожал ему руку. – Держитесь, профессор! Всё ещё наладится, – усмехнулся, – поверьте Мефистофелю.
– Спасибо вам, – тепло поблагодарил Юрий Сергеевич.
– До вечера! А, может, вы задержитесь до конца репетиции? Вернулись бы вместе. А то вы чересчур встревожили меня, страшно, чтобы вы шли один.
– Не беспокойтесь. То, что я наговорил вам, просто бред усталого человека… Не придавайте большого значения… Спасибо, что выслушали. Простите…
И снова тянулись грязные, едва припорошенные снегом улицы. И на одной из них опять видел Миловидов вдову, но теперь на её тележке лежал не гроб, а вязанка досок, дрова, которые тянула она из последних сил, чтобы обогреть свой угол, где, быть может, ждали её голодные дети. Слёзы подступали от этой картины, от вида испитого лица в ранних морщинах. И ничем не мог помочь Юрий Сергеевич её беде, отступил, пропуская её и сам провалившись при этом ногой в лужу.