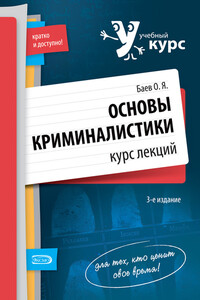Следователь (основы теории и практики деятельности) | страница 91
Итак, злоупотребление следователя правом есть употребление им своего права во зло[197].
И потому нам в настоящее время представляется, что поведение следователя, не нарушающее прямых запретов и предписаний уголовно-процессуального закона, «вписывающееся» в его процессуальный статус – поведение правовое, не противоправное в узком значении последнего понятия, но недолжное, недопустимое.
Предвосхищая напрашивающиеся упреки в противоречивости и парадоксальности используемого словосочетания, скажем, что оно не менее точно характеризует содержание вкладываемого в него понятия – недопустимости злоупотребления правом, чем словосочетание «недопустимые доказательства», корректность использования которого в соответствующем контексте не ставится под сомнение как в теории, так и в практике уголовного судопроизводства.
Как злоупотребление правом такое поведение (в контексте предмета нашей работы – поведение следователя) может быть расценено в следующих случаях:
– когда таким правовым поведением следователя нарушаются права и свободы других лиц, в первую очередь лица, в отношении которого им осуществляется уголовное преследование;
– когда условия и порядок реализации следователем своего права препятствует или существенно затрудняет объективность и полноту осуществляемого им уголовного преследования;
– когда условия и порядок реализации следователем имеющегося у него права препятствует осуществлению уголовного преследования в разумные сроки.
Только при этих условиях можно говорить о необходимости наступления процессуальной ответственности следователя за факты злоупотребления правом; она в таких случаях, как то верно отмечается в уголовно-процессуальной литературе, будет следовать не за осуществление субъектом своего права, а за нарушение порядка его им реализации[198].
Установление факта злоупотребления правом со стороны его обладателя (в нашем случае следователя) не может быть осуществлено без объективного и всестороннего учета всех обстоятельств осуществления судопроизводства по конкретному уголовному делу, по которому возникла необходимость у компетентного должностного лица принятия по своему на то усмотрению по данному факту соответствующего процессуального решения.
Сущность и обоснованность этого утверждения отчетливо усматривается из нижеприводимого (в выдержках) Определения Конституционного Суда РФ, принятого по результатам рассмотрения конкретной жалобы.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации М. В. Череповский оспаривал конституционность ч. 2 ст. 18 УПК РФ, регламентирующей право участников уголовного судопроизводства, не владеющих языком, на котором ведется производство по делу, на пользование родным языком и получение помощи переводчика.