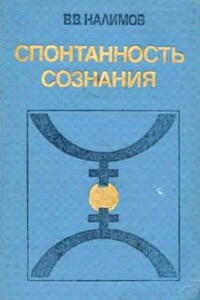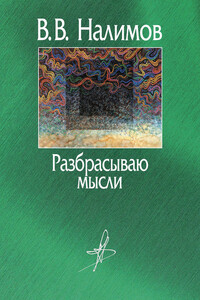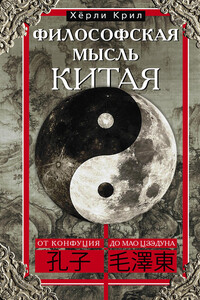Канатоходец | страница 6
Теперь другое воспоминание: математическое отделение физико-математического факультета Московского университета имени Покровского, 1930 год. В один сумрачный день шепот пробежал среди нас, студентов: арестован профессор Дмитрий Федорович Егоров. Он был основателем московской математической школы. Мы слушали его лекции, учились по его учебникам. В своих общечеловеческих взглядах он, конечно, был старомоден. К тому же ранее исполнял обязанности старосты университетской церкви. А во время ареста был уже совсем старый и больной человек — в тюрьме скоро скончался. И опять хочется задать все тот же вопрос: кому и зачем была нужна его смерть?
А где мои духовные учителя, чьи имена я чту и чье дело я пытаюсь продолжать в своих работах философской направленности? Я узнал только, что они были посмертно реабилитированы много раньше, чем я. Тюремные дела тоже полны парадоксов.
А мои скитанья: арест в 26 лет. Весной 1937 года приговор Особого совещания (без суда): 5 лет исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную деятельность. Репрессия в разных своих проявлениях растянулась на 18 лет. В 1954 году по амнистии с меня снимается судимость. Снимается потому, что у меня в приговоре было всего-то только 5 лет! В 1960 году, наконец, реабилитация. Но и по сей день я подчас чувствую за собой плетущуюся тень с кличкой «враг народа»[3]. Со мною вместе были арестованы и многие другие — два моих, еще школьных, товарища: Юра Проферансов погиб в лагере, Ион Шаревский был расстрелян. А о «Деле» в целом я практически долго ничего не знал. В плане духовном, видимо, все погибло. Иногда мне кажется, что я только один и продолжаю в своих работах ту, начавшуюся тогда, новую для России нить философского осмысления мира с синтетических позиций, готовых впитать в себя все богатство мысли как Запада, так и Востока, не чуждаясь ни многообразия религиозных представлений, ни научных построений, ни философских изысканий.
Не нужно думать, что трагичность сгущалась только вокруг отдельных личностей и их окружения. Она была повсеместной. С начала 30-х годов она стала эпидемией, захватившей в той или иной мере все слои общества. Наверное, эту эпидемию можно было бы назвать робеспьеровской. Как и всякая эпидемия, она реализовывалась все же избирательно, захватывая прежде всего людей выдающихся, и особенно талантливых. В своих философски ориентированных работах я иногда обращаюсь к поэтам нашей страны недавнего прошлого. Вот как обернулась их судьба: Александр Блок — принявший русскую революцию и воспевший ее, — умирает, находясь в тяжелом нервном расстройстве, в голодном Петрограде; Николай Гумилев расстрелян в 1921 году (позднее в лагере оказывается его сын — историк Лев Гумилев